Пять мальчиков в русских рубашках
И так, в древности считали: история не должна ничего доказывать и утверждать. Ее задача — рассказать, поведать. Держусь этой мысли, и как бы просто веду разговор...
Род мой — из Белоруссии, Белой Руси. Когда я впервые приехал сюда, мне показалось, что она серебристо-туманного цвета, а пахнет смесью жареной картошки и только-только испеченного хлеба. Хорошо: тишина, уют...
Предки мои жили в селе Долговичи Оршанского уезда Могилевской губернии.
Всегда говорили (и говорят) о евреях, что это люди ушлые, хитрые, себе на уме. Нет-нет, далеко не все. Вот держу в руках старую, больше чем столетней давности, фотографию и видно: те, кто на ней, — мои предки, — были, наверное, людьми простодушными и даже немного смешными.
Вдруг нагрянул в Долговичи какой-то разъездной фотограф, повесил на стену их дома неизменное тогда полотнище /8/

с изображением древнеримской колоннады, экзотического пруда с плавающими лебедями, и нажал на «спуск». Раз! Готово! Увековечил. И никто, никто не обратил внимания на то, что из-под намалеванных римских колонн и пруда с красавцами-лебедями предательски видны уже потрескавшиеся бревна старой деревянной хаты.
На фотографии — три молодые женщины с одинаковыми, надо полагать, модными в те времена прическами и в одинаковых (тоже, вероятно, модных тогда) платьях со стоячими воротничками.
Это дочери бородатого старика, на фото сидящего подчеркнуто прямо, держа руки на коленях. Мой прадед по матери — Гирш Макрович. Но у него была еще одна дочь, на фотографии отсутствующая. Почему? Ее историю следует хотя бы вкратце рассказать. Это история «Ромео и Джульетты из села Долговичи». Я узнал ее от моей матери.
То ли в Долговичах, то ли где-то поблизости жил белорусский мужичок, сын которого служил городовым аж в самом Петербурге. Однажды, приехав в отпуск домой, он увидел молодую евреечку (дочку моего прадеда) и влюбился в нее. А она — в него! Никакие просьбы и требования отца «отстать от гоя» не помогли. Она согласилась принять православие, и ее тайно увезли в монастырь для крещения и всего прочего. Ее отец (мой прадед) поехал к ней, стал на колени, обещал «златые горы», чтобы спасти его и всю семью от великого позора. Она была непреклонна. И ее прокляли, отвергли навсегда. Бывшая еврейская девушка превратилась в белорусскую женщину. Ходила в церковь, молилась перед иконами, крестила детей, работала, как и все другие, в поле, в хлеву, стала в деревне своей. Родные забыли ее...
А в 1945 году, вскоре после войны, к нам домой вдруг пришел незнакомый солдат с «сидором» за плечами. Солдат сказал, что является нашим близким родственником. Когда он
/9/
уходил на фронт, мать сказала ему, что в Москве должны жить ее бывшие родные, назвала фамилии и приказала, если случится, попытаться найти их. Это был сын той самой еврейской девушки, которая из-за любви ушла от своего народа и своей веры... Он рассказал, что недавно получил письмо от одного односельчанина, в котором тот написал о гибели матери. Когда в 41-м пришли немцы, кто-то донес, что в прошлом она была еврейкой. Ее забрали, и она не вернулась.
— Приеду домой, — сказал солдат. — Разберусь.
И провел по горлу ладонью.
Вскоре он уехал, и больше о нем не было ни слуху, ни духу.
Вернемся, однако, к старой фотографии. Во втором ряду, по правую сторону от прадеда, — его невестка и сын (мои бабушка и дед). Рядом — две их дочки, высокая (в клетчатой юбке) — моя мать.
На фотографии нет еще одного сына прадеда. В начале ХХ века он уехал в Америку. Мать моя рассказывала мне, что он хотел взять ее туда вместе со своей семьей, но она отказалась — осталась дома, на родине. Никогда я не слышал, чтобы она читала стихи. Но незадолго до смерти, когда, овдовев, она вынуждена была уехать из Москвы в другой город, к дочери, прочитала мне из Пушкина:
И хоть бездыханному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне б все ж хотелось почивать…
Ее образ никогда не покидает меня. Вот вижу ее, внимательно слушающей собеседника. Она была молчалива, предпочитала слушать, а это свойство ума. Есть и моя перед ней вина.
Жен вспоминали на привале,
Друзей в бою. И только мать
/10/
Не то и вправду забывали,
Не то стеснялись вспоминать
.
Но было, что пред смертью самой,
Видавший не один поход,
Седой рубака крикнет: мама!
И под копыта упадет.
(М. Максимов)
Весь нижний ряд на фото — пять мальчиков в русских рубашках-косоворотках, сыновья моего деда, уверен, заслуживают долгой памяти. Они, естественно, не знали своего будущего. Я знаю. Не потому ли, наверное, в их детских лицах мне мнится некое прозрение или стремление прозреть то, что с ними произойдет…
Пять сыновей было у моего деда, пять! Родились они в период между концом ХIХ и началом ХХ века. Самый маленький, младший, стоящий на фото у колен отца, скоро умрет от какойто болезни. А пока он стоит, насупившись, словно бы обидевшись на что-то. Никто из остальных не избежал ударов «железного» ХХ века. Все его удары они приняли на себя…
Вот самый старший (он в темной рубашке, сидит у ног отца). В глазах его — какая-то настороженная задумчивость… 1914 год, мировая война. Он недавно кончил гимназию. Теперь его черед воевать «за веру, царя и отечество». Может быть, он чувствовал свою судьбу?
Но этому пареньку родители хотели дать шанс. В свое время, работая в фондах архива Департамента полиции за 1915 год, я наткнулся на любопытное письмо некоей медсестры-еврейки военного госпиталя из Москвы ее брату, пожелавшему добровольно вступить в военное училище. Письмо было перлюстрировано в полиции и таким образом сохранилось, дошло до наших времен. Сестра спрашивала: «Кого ты защищать идешь? Где отечество? Что дает тебе это отечество
/11/
как еврею?.. Со слезами на глазах рассказывали мне солдатики-евреи, как враждебно к ним относятся в армии солдаты и офицеры. А что сотворили со всеми евреями, которые жили близко к позициям, ведь их всех превратили в преступников. За кого ты идешь сражаться? Где самолюбие у тебя?.. Подумай, что ты делаешь».
Так, наверное, думала и моя бабка. Она — женщина решительная — собрала в узел гражданскую одежду и поехала в город, где стояла часть, в которой перед отправкой на фронт служил ее старший сын. Она по-еврейски сказала ему, что он должен переодеться и незаметно уйти. Его спрячут так, что никакая полиция не найдет, то есть она предлагала ему, просила и умоляла его дезертировать. Он ответил, что против совести и закона не пойдет.
«Почему должны воевать мои товарищи, — спрашивал он,
— а я — сидеть за их спиной? Нет!»
В слезах мать уехала со своим узелком. Прошло время, и получено было казенное письмо, в котором говорилось, что он «пропал без вести» (была в ту войну такая формулировка). Пропал без вести — значит, убит неизвестно где и когда. В Пруссии, Прибалтике, Галиции?
А у ног матери (моей бабушки) припал на одно колено мальчик в белой рубашке. Лицо его, мне кажется, выражает внимание, любопытство, вопрос. Что будет, что там — впереди? Его призвали в Красную армию в 1941 году уже зрелым человеком. Полной мерой он хлебнул трагическое начало войны. Выходил из окружения, попал в плен, чудом бежал и снова был поставлен в боевой ряд. Ему повезло. Он прошел войну «от звонка до звонка». Но вскоре умер.
Мы не от старости умрем.
От старых ран умрем...
(С. Гудзенко)
/12/
Это и о нем. Мой дед потерял еще одного сына.
 Но до Отечественной войны семью деда не обошла трагедия, обрушившаяся на многие тысячи советских людей. Ежовщина! Бешено крутящаяся ее воронка втянула мальчика, который на фотографии опустился на коленки, опершись о них руками. Он смотрит прямо, даже с некоторым вызовом, как бы готовый принять рок.
Никого из детей моего деда не прельстили торговля или финансы. После революции страна строила, и все сыновья стали инженерами. Этот мальчик окончил институт инженеров транспорта и строил шоссейные дороги. Одна из лучших шоссейных дорог 30-х гг. «Москва — Минск» — его работа, его проект. Сам нарком Каганович вручил ему ценный подарок — золотой портсигар и представил к ордену. Тогда, в 1935 — 1936 годах, так называемых орденоносцев в стране было очень мало.
Но до Отечественной войны семью деда не обошла трагедия, обрушившаяся на многие тысячи советских людей. Ежовщина! Бешено крутящаяся ее воронка втянула мальчика, который на фотографии опустился на коленки, опершись о них руками. Он смотрит прямо, даже с некоторым вызовом, как бы готовый принять рок.
Никого из детей моего деда не прельстили торговля или финансы. После революции страна строила, и все сыновья стали инженерами. Этот мальчик окончил институт инженеров транспорта и строил шоссейные дороги. Одна из лучших шоссейных дорог 30-х гг. «Москва — Минск» — его работа, его проект. Сам нарком Каганович вручил ему ценный подарок — золотой портсигар и представил к ордену. Тогда, в 1935 — 1936 годах, так называемых орденоносцев в стране было очень мало.
Потом его перевели из Минска в Москву, и он стал главным инженером учреждения, строившего шоссейные дороги по всему Союзу. Но на беду начальником этого учреждения
/13/
был Л. Серебряков — бывший секретарь ЦК и… бывший сторонник Л. Троцкого. В борьбе с «врагами народа» Сталин копал глубоко, можно сказать, черпал до дна. Когда в 37-м Серебряков был взят, стало ясно, что вся его команда последует за ним. И «мальчик с фотографии» знал это. Дома он говорил жене и старикам-родителям: «Не надо отчаиваться. Ну, получу пять-шесть лет. Когда вернусь, дочка будет уже большая, пойдет в школу, и я буду сопровождать ее».
Он жестоко ошибся в оценке своей «вины». Ему дали не пять лет, а «десять без права переписки», что маскировало высшую меру — расстрел. Его, как и тысячи других, убили на полигоне НКВД «Коммунарка» под Москвой. Это жене его дали восемь лет лагерей. На руках стариков осталась трехлетняя внучка. Они не отдали ее в детский дом, и она выросла человеком чистейшей души, была преподавателем университета, а последние годы прожила в Израиле.
В дополнение к восьми годам жену «врага народа» на несколько лет лишили права жить в Москве. Сначала она жила в Тихвине, а через три года ей позволили вернуться в Москву. Я много раз разговаривал с ней. Она рассказывала, что когда на Лубянке ей объявили приговор, она мгновенно и полностью оглохла. Потом слух возвратился...
Я осуждал Сталина, ту власть. Она резко обрывала меня: «Замолчите! Вы ничего не знаете, а главное — ничего не понимаете!»
Я часто размышлял над ее словами. Боялась «стен»? Нет, тут было что-то другое. Что? Не знаю...
Маленький мальчик, сидящий на фотографии в нижнем ряду на стульчике, смотрит не по-детски серьезно, внимательно. Он пережил всех своих братьев, и ему одному дано было узнать их горькие судьбы.
В Отечественную войну его не мобилизовали на фронт, потому что он был путейским инженером-изыскателем. Он и
/14/
его товарищи группами, партиями, где пешком, где верхом на лошадях, часто шли по неизведанным местам, нанося на карты и планы линии будущих железных дорог. По ним потом непрерывными потоками шли на запад тяжелые составы с орудиями, танками, самолетами, солдатами. А эти люди часто недоедали и недосыпали. Ночевали либо в палатках, либо в старых вагонах на заброшенных полустанках. Фронт требовал! К концу войны этот мальчик был отмечен тремя инфарктами (помимо медалей и орденов). Но у него еще были силы схоронить отца (моего деда), умершего день в день со Сталиным — 5 марта 1953 года.
На кладбище еще лежал глубокий снег. Проваливаясь в него, мы добрались до вырытой могилы. Высокий тощий еврей в черном и кипе подошел к нам.
— Нужна ли заупокойная молитва? — спросил он.
И мы — неверующий, последний оставшийся в живых сын и неверующие внуки — ответили:
— Нужна.
Гортанные, непонятные звуки понеслись к низкому хмурому небу. А вскоре четвертый инфаркт в возрасте 55-ти лет доконал и последнего сына, мальчика, который на фотографии сидит на детском стульчике. Всю свою трудовую жизнь он проходил в поношенных железнодорожной тужурке и фуражке. В них он и был похоронен. Когда об этом сказали матери (моей бабушке), она уже была совсем плоха. Долго молчала. Потом сказала:
— Плохой свет…
* * *
Рано ушли из жизни пять мальчиков в русских рубашкахкосоворотках, как и многие из их поколения. Будут ли когданибудь еще в России люди такого самоотверженного, бескорыстного поколения?
/15/
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье,
Но их повыбило железом.
И леса нет. Одни деревья.
(Д. Самойлов)
«Товарищ Зиновий Иофо...»
Отец мой тоже родом из Белоруссии. Но был он человеком не сельским, а городским. Он из городка Горки, известного еще в XVI веке. Там, между прочим, издавна существовал сельскохозяйственный институт, после революции названный даже Академией! Дальше «горецкого деда» генеалогия моя не идет. Да и его (как и бабку) я никогда не видел, если не считать какой-то старой «паспортной» карточки, сохранившейся у нас дома, и его небольшой фотографии в рост. Судя по ней, был он среднего роста, носил небольшую бороду. Одевался по-местечковому, но и по-мужицки тоже: картуз, поддевка, сапоги.
По глупости мальчишки и эгоистичности юнца я мало расспрашивал своего отца. Теперь бы расспросил обо всем, да слишком поздно хватился. Знаю только, что никаким ремеслом дед не владел. Держал огород, выращивал огурцы и, видимо, продавал их. Ясно, что от такого «бизнеса» не разбогатеешь, а в семье подрастало пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Старшим был мой отец, он первый и покинул Горки. У родителей был родственник (или знакомый) в Херсоне — часовщик. К нему в ученики они и отправили сына. В мальчишестве мне долго казалось, что отцовское детство — такое же, как у чеховского Ваньки Жукова. Конечно, над ним не издевались, как над Ванькой, не «тыкали селедкой в морду», но
/16/
добротой хозяин не отличался. И отец рассказывал, что, бывало, по ночам, лежа в прихожей на отведенном ему сундуке, он тихо плакал.
В 1914 или 1915 году отца призвали в армию. Отправили в Иркутск, а через некоторое время, в составе какого-то сибирского стрелкового полка, — на Северо-Западный фронт, в Прибалтику. Здесь часть, в которой он служил, попала в плен. Сначала русские пленные использовались на сельскохозяйственных работах. Содержали их в лагере плохо, кормили брюквой, и многие болели. У меня сохранилась старая фотография. На ней двое в русской солдатской форме стоят в каком-то перелеске. На обороте почти стертая, но все же еще различимая фраза, написанная намусоленным карандашом:
«Товарищу Зиновию Иофо на память. Гусельщиков Степан, Тамбовской губернии. Бранденбург, 1916 год». Я очень дорожу этой фотографией.
Позднее в лагерь стали приезжать незнакомые люди, о чем-то говорили, пленных выстраивали, и переводчик предлагал тем, кто владел заводской профессией или ремеслом, выйти из строя. Вскоре эти вышедшие из лагеря уезжали. Как-то раз переводчик неожиданно крикнул: «Часовщики есть?» Отец сделал шаг вперед...
Он проработал на германских часовых предприятиях целых восемь лет! С подписанием Брестского мира начался процесс обмена военнопленными. Он особенно расширился после договора между Россией и Германией, подписанного в Рапалло в 1922 г. Пленные могли возвращаться на родину или ехать в другую страну. Мой отец вернулся домой. Это было в 1923 году. В следующем году он женился и перебрался в Москву навсегда. Тогда Москву наполняло много разных приезжих. Профессия отца требовала клиентуры большого города.
/17/
Жаль, я ничего не знаю о жизни отца там, в Германии. Он привез оттуда очень хороший, ценный набор инструментов для своей работы, которым пользовался всю жизнь. Когда после тяжелой болезни он умер, явился ко мне человек, представившийся знакомым отца по долгим совместым прогулкам в последний год его жизни. Попросил продать этот германский инструмент. Я отдал ему весь набор. Оставил себе только маленький молоточек.
Из Германии отец привез также любовь к поэзии Генриха Гейне и нередко цитировал его стихи.
Пиджаки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи, жаркие объятья.
Если б сердце вам при этом!
Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет ветер
И легко усталой груди...
А по Москве, как и по всей стране, «гулял» НЭП. Появились всякие синдикаты, концессии, торгсины. Расправил плечи частник, по следам которого неотступно шли фининспекторы. Знали, зачем шли. Некоторые, особенно ювелиры, часовых дел мастера и проч., «шуровали» на черном рынке, богатели, становились подпольными миллионерами. Их сажали за «золотуху». Они отсиживали свой срок и, странное дело, вновь брались за свое. И так бывало по нескольку раз! Эти люди не страшились тюремных нар. Видно, страсть накопления подавляла у них страх. Еще мальчишкой я знал одного подобного, по фамилии Маевский. У него было жирное лицо с большой ямочкой на тяжелом подбородке. На носу — старомодное пенсне со шнурком. Он считался часовым мастером,
/18/
но, как говорил отец, работать не умел. Да и не хотел, наверное. Занимался другим… У него имелась обширная клиентура, с которой он собирал часы для ремонта, а затем раздавал их мастерам-работягам (был, скорее всего, и другой «бизнес»). Сколько он сдирал со своих клиентов, этого никто не знал. Мастерам же выдавал гроши, да и то далеко не сразу, с оплатой тянул до предела. Хорошо помню, как отец (иногда он брал меня с собой, и я ждал его на улице), возвращаясь от Маевского, с досадой говорил:
– Опять сказал, что не может заплатить. Велел зайти через неделю.
В такие минуты мне было жалко отца до слез, и я тихо ненавидел Маевского.
Отец любил старые песни: «Вот вспыхнуло утро...», «Ямщик, не гони лошадей...», «На сопках Маньчжурии» и другие. Голоса у него не было, и он часто просил, чтобы кто-нибудь ему напел:
Тихо вокруг, ветер туман унес.
На сопках Маньчжурии спит русский солдат
И русских не видит слез...
Нравились ему и новые песни. Особенно в исполнении Марка Бернеса: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...».
Отец в 20-х годах был частником. Но при этом — очень честным человеком. Кроме того, он часто говорил, что «хочет спать спокойно». Как человек, не получивший образования, он прямо-таки преклонялся перед образованными людьми, особенно имевшими высокие ученые звания. Если ему указывали на кого-то и говорили, что вот этот человек — профессор,
/19/
он проникался к нему высшим уважением. Когда мне присвоили профессорское звание, я, конечно, был доволен. Но в то же время очень жалел, что отец мой уже никогда об этом не узнает — вот кто был бы счастлив искренне и безмерно.
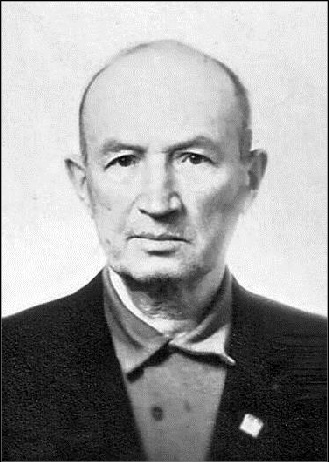 Мастерская отца (и его напарника) находилась в центре, на Лубянке, и в нее иногда заходили
«большие люди», например, поэт Демьян Бедный. К тому времени
звезда его уже закатилась, но, видимо, за свои прошлые революционные сочинения он был награжден старинным особняком на взгорье Рождественского бульвара. Как-то он сказал отцу, что у него в особняке много напольных, настенных и настольных часов, требующих контроля, и просил отца время от времени заходить к нему их проведать. Помню (это было уже в середине 30-х годов), как Демьян Бедный прислал нам, детям, от своих щедрот пакет с мандаринами, бывшими в то время большой редкостью.
Мастерская отца (и его напарника) находилась в центре, на Лубянке, и в нее иногда заходили
«большие люди», например, поэт Демьян Бедный. К тому времени
звезда его уже закатилась, но, видимо, за свои прошлые революционные сочинения он был награжден старинным особняком на взгорье Рождественского бульвара. Как-то он сказал отцу, что у него в особняке много напольных, настенных и настольных часов, требующих контроля, и просил отца время от времени заходить к нему их проведать. Помню (это было уже в середине 30-х годов), как Демьян Бедный прислал нам, детям, от своих щедрот пакет с мандаринами, бывшими в то время большой редкостью.
Но недолго торжествовали частники. Фининспекторы победили: НЭП сворачивали, частников и кустарей собирали в артели и другие предприятия. Одно из часовых предприятий называлось «Верное время». Оно находилось в начале Кузнецкого моста (если идти с Неглинки). Это был небольшой старый дом с застекленной витриной, выходившей на оживленную улицу. В первом ряду сидел мой отец — технический руководитель отдела. Я этим очень гордился и часто специально заезжал на Кузнецкий мост.
/20/
Horresco referens (Содрогаясь, рассказываю)
...А родные отца остались в Белоруссии. И почти все на свою
погибель. Кроме двух братьев и племянника, призванных в Красную армию. Брат Абель — малограмотный (если не сказать большего) мужиковатый еврей, хитроватый, но и напористый. Он один из всей семьи не покинул родные Горки и жил в доме своего отца с женой, дочерью и сыном. Дети оказались на редкость способными, особенно сын Израиль. В 40-м году он окончил школу и уехал в Ленинград, где стал студентом технического вуза. Но летом 41-го он ушел в армию, был направлен в артиллерийское училище и всю войну отслужил офицером в зенитных частях московского ПВО, охранявших жизненно важное Икшинское водохранилище. А в Горках был мобилизован Абель. Его признали годным лишь к нестроевой службе, но вскоре вообше комиссовали по болезни. Мы были тогда в эвакуации в удмуртском Глазове, и он приехал к нам. Работал при какой-то конюшне. Я часто встречал его на улочках городка. В неподпоясанной ремнем длинной замызганной шинели он уныло брел, ведя за собой на поводу такую же унылую, старую лошадь. Он ничего не знал о жене и дочке, оставшихся в Горках. Может, и лучше, что не знал: их уже не было на этом свете...
Перед войной с женой и двумя дочерьми лет двенадцати и пятнадцати жил в белорусском местечке Дрибин другой брат моего отца — Моисей. Однажды, еще пацаном, я написал в Дрибин письмо о том, что хочу стать летчиком (тогда многие мальчишки мечтали об этом). Ответили мне мои двоюродные сестры, а дядя Моисей сделал приписку. Написал, что тоже мечтал быть летчиком, и заметил, что частично мечта его осуществилась: он — маляр и часто трудится на крышах, а также на верхних этажах…
/21/
Я не знаю, почему Моисея не призвали в Красную армию в первые же дни войны. Если бы призвали, это, возможно, стало бы его спасением. Но Холокост накрыл всю семью. И она исчезла целиком, никто не мог сказать, где и как они погибли. «Ни приметы, ни следа», как писал А. Твардовский.
Младший брат моего отца, Наум Иоффе, покинул родной дом и Белоруссию в конце 20-х годов по призыву на военную службу. Есть его фотография, на которой он — красноармеец учебной команды в г. Клинцы. На нем шинель, буденовка. Он стал кадровым военным, капитаном или майором, участвовал в походе 1939 года в Западную Украину и Западную Белоруссию, воевал в зимнюю финскую кампанию 40-го года, а в канун Отечественной войны его часть стояла в Прибалтике. Никто не знает, что с ней произошло. Скорее всего, она погибла в бою.
Но все-таки судьба была к нему милостива. Он не узнал, какой силы удар нанесла война его семье. Жена с двенадцатилетним сыном эвакуировалась в г. Шую. В ночь, когда она дежурила в аптеке, где работала, произошел пожар. Сгорело все. И она тоже. Осиротевшего сына взяла в свою семью сестра Наума.
Казалось бы, хватит гибелей и смертей. Нет. Может быть, самая ужасная участь выпала на долю единственной сестры отца, Доры Наумовны. С мужем и двумя дочками она жила в Белоруссии, в поселке Дубровно. Летом 41-го она приехала в Москву консультироваться с врачами и взяла с собой младшую дочь. Ее звали Маня, она перешла в седьмой класс, никогда не была в Москве и жаждала увидеть ее достопримечательности. Маня ездила и ходила по Москве, смотрела во все свои большие черные глаза и светилась радостью. Через некоторое время мать решила, что Мане пора возвращаться домой: надо помогать отцу и сестре по хозяйству. Маня не хо тела уезжать, упрашивала маму остаться с ней хотя бы еще на
недельку, плакала. Судьба! Почему ты не шепнула женщине только два слова: «Пусть останется!». Девочка уехала навстречу смерти. Под огненный каток германского вторжения попали все: муж, старшая сестра Мани и сама Маня, единственная имевшая шанс остаться в живых. Потом дошел до нас слух, будто кто-то из сестер, может быть, Маня, бродила по словно вымершему поселку, стучалась в соседские двери, прося впустить. Никто не откликнулся. Зловещее молчание. Но это был слух...
У В. Высоцкого есть стихотворение «О новом времени».
Приведу лишь последнее четверостишие.
И когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица, —
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
Не знаю, от чьих рук погибла девочка Маня. Давным-давно это было. Многое уже отгрохотало, отгорело, отплакалось. Можно «потерять», можно даже «простить». Поразительно другое. В наши дни немало потомков безвинных жертв Холокоста, покинув родину, чернят и клянут Россию, Красную армию! Они забыли? Неужели и впрямь забыли, что Красная армия спасла от страшной судьбы Мани всех, еще остававшихся в живых? Успела. Подошла к их смертной черте. Потеряв на горьком пути своем миллионы солдат…
А мама Мани до конца дней своих уже не жила, а казнилась, считая себя прямой виновницей гибели дочери.
Но страшна война не только тем, что убивает. Страшна и тем, что духовно калечит многих, оставшихся в живых. В 1948-м Дора Наумовна, несчастная мать, жившая в Шуе и
/23/
работавшая там приемщицей в прачечной, умерла. На похороны приехали несколько человек родных. Кладбище. Потом полутемная комнатка, в которой жила мать Мани. Сели за стол, говорили, вспоминали, горевали... Вечером я забрался на что-то вроде полатей, задремал. Разбудила меня громкая руготня внизу, за столом. Там крепко ссорились из-за, в сущности... грошовой суммы, оставшейся на сберкнижке покойной...
Дождавшись рассвета, я ушел на станцию./24/


 Но до Отечественной войны семью деда не обошла трагедия, обрушившаяся на многие тысячи советских людей. Ежовщина! Бешено крутящаяся ее воронка втянула мальчика, который на фотографии опустился на коленки, опершись о них руками. Он смотрит прямо, даже с некоторым вызовом, как бы готовый принять рок.
Никого из детей моего деда не прельстили торговля или финансы. После революции страна строила, и все сыновья стали инженерами. Этот мальчик окончил институт инженеров транспорта и строил шоссейные дороги. Одна из лучших шоссейных дорог 30-х гг. «Москва — Минск» — его работа, его проект. Сам нарком Каганович вручил ему ценный подарок — золотой портсигар и представил к ордену. Тогда, в 1935 — 1936 годах, так называемых орденоносцев в стране было очень мало.
Но до Отечественной войны семью деда не обошла трагедия, обрушившаяся на многие тысячи советских людей. Ежовщина! Бешено крутящаяся ее воронка втянула мальчика, который на фотографии опустился на коленки, опершись о них руками. Он смотрит прямо, даже с некоторым вызовом, как бы готовый принять рок.
Никого из детей моего деда не прельстили торговля или финансы. После революции страна строила, и все сыновья стали инженерами. Этот мальчик окончил институт инженеров транспорта и строил шоссейные дороги. Одна из лучших шоссейных дорог 30-х гг. «Москва — Минск» — его работа, его проект. Сам нарком Каганович вручил ему ценный подарок — золотой портсигар и представил к ордену. Тогда, в 1935 — 1936 годах, так называемых орденоносцев в стране было очень мало. 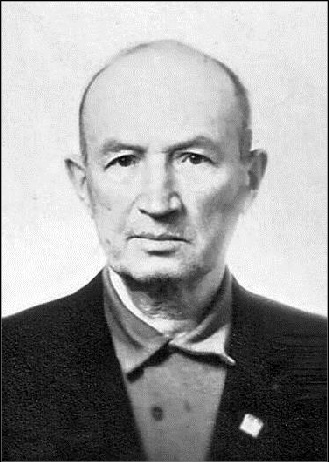 Мастерская отца (и его напарника) находилась в центре, на Лубянке, и в нее иногда заходили
«большие люди», например, поэт Демьян Бедный. К тому времени
звезда его уже закатилась, но, видимо, за свои прошлые революционные сочинения он был награжден старинным особняком на взгорье Рождественского бульвара. Как-то он сказал отцу, что у него в особняке много напольных, настенных и настольных часов, требующих контроля, и просил отца время от времени заходить к нему их проведать. Помню (это было уже в середине 30-х годов), как Демьян Бедный прислал нам, детям, от своих щедрот пакет с мандаринами, бывшими в то время большой редкостью.
Мастерская отца (и его напарника) находилась в центре, на Лубянке, и в нее иногда заходили
«большие люди», например, поэт Демьян Бедный. К тому времени
звезда его уже закатилась, но, видимо, за свои прошлые революционные сочинения он был награжден старинным особняком на взгорье Рождественского бульвара. Как-то он сказал отцу, что у него в особняке много напольных, настенных и настольных часов, требующих контроля, и просил отца время от времени заходить к нему их проведать. Помню (это было уже в середине 30-х годов), как Демьян Бедный прислал нам, детям, от своих щедрот пакет с мандаринами, бывшими в то время большой редкостью.