Прорабы и проработчики
Провозглашенная Горбачевым гласность началась не столько с осмысления советского настоящего, сколько советской истории как таковой. Как писал «перестроечный» экономист О. Лацис, произошел «почти шизофренический сдвиг центра общественного внимания к проблемам нашего прошлого». Историки оказались в моде, причем появился даже особый их тип. Если раньше образ историка связывался с чем-то подобным летописцу Нестору, уединенно пишущему «Повесть временных лет», то теперь этот «Нестор» вышел на публику. Появились историки-трибуны. Больших «повестей» за ними не числилось; их оружием в основном было устное слово. Вряд ли ошибусь, если скажу, что тон во многом задавал Юрий Афанасьев, в прошлом — проректор Высшей комсомольской школы, а в начале перестройки, по-моему, уже заведующий отделом истории журнала «Коммунист». Немного позднее он стал одним из лидеров Межрегиональной группы Съезда народных депутатов и особенно прославился своим афоризмом «агрессивно-послушное большинство», брошенным в лицо «антидемократической массе» делегатов Съезда. Но это будет позже, а в начале перестройки он выступил как ученый, поставивший под вопрос марксистско-ленинскую методологию в ее сталинистско-брежневском оформлении.
Восхождение Афанасьева на политическую арену началось со статьи, напечатанной в журнале «Коммунист», кажется, в 1987 году. Она произвела в среде историков переполох. На Афанасьева обрушились /252/ кары. По совместительству он работал в Институте всеобщей истории АН СССР, и его директор, член-корреспондент АН СССР З. В. Удальцова, немедленно уволила автора новых методологических изысканий. Она, видимо, расценила их как очередной идеологический вывих, который надо
«вправить» привычными административными мерами. Но на сей раз она не сориентировалась: грянули большие перемены.
 Афанасьев стал ректором Историко-архивного института. В январе 1987 года в Институте
Выступает Юрий Афанасьев. 1987 г. истории СССР из рук в руки передавались «Московские новости» с его статьей. Существующая методология объявлялась там схемой, ведущей к упрощению, «смазыванию» живого исторического процесса и навешиванию «погромных» ярлыков. Тогда это была сенсация. В редакции «Московских новостей» говорили, что в связи с афанасьевской статьей над ними «сгущаются тучи», слышатся «глухие удары»... Но «тучи» рассеивались, а «удары» уже повисали в воздухе. Да и сам Юрий Афанасьев в своих статьях вовсе не отказывался полностью от марксистско-ленинской идеологии.
Афанасьев стал ректором Историко-архивного института. В январе 1987 года в Институте
Выступает Юрий Афанасьев. 1987 г. истории СССР из рук в руки передавались «Московские новости» с его статьей. Существующая методология объявлялась там схемой, ведущей к упрощению, «смазыванию» живого исторического процесса и навешиванию «погромных» ярлыков. Тогда это была сенсация. В редакции «Московских новостей» говорили, что в связи с афанасьевской статьей над ними «сгущаются тучи», слышатся «глухие удары»... Но «тучи» рассеивались, а «удары» уже повисали в воздухе. Да и сам Юрий Афанасьев в своих статьях вовсе не отказывался полностью от марксистско-ленинской идеологии.
Мы в то время часто собирались в «Доме на набережной» у знаменитого драматурга М. Шатрова. Тут бывали разные люди — актеры, журналисты, писатели, историки. Обсуждались все текущие новости. И, конечно, назначение Горбачева. Некоторые говорили, что надо ждать перемен: новый генсек даже внешне не похож на прежних. Одна актриса резко возражала: «Обыкновенный пенек». Некий журналист из «Огонька» рассказывал, что Виталий Коротич, вернувшись с совещания «в верхах», дал указание сотрудникам: «Вперед, никуда не сворачиваем, круто /253/ перестраиваемся». А присутствовавший Аркадий Ваксберг из «Литературки» сказал, что их Чак (А. Б. Чаковский. — Ред.) после того же совещания давал установку на осторожность, на движение вперед, но тихо, с оглядкой. Каждый понимал как хотел, но эта разница в умозаключениях, видимо, шла также от противоречивости и эклектичности самого Горбачева.
Очевидным было мощное давление на него с двух сторон. С одной стороны это были силы, которые, как теперь видно, углядели возможные последствия проводимой перестройки. В «Литературной России» в конце марта 1987 года были опубликованы высказывания С. Михалкова, П. Проскурина, И. Шундика, Ю. Бондарева и др. Шундик писал, что одно дело, когда ветер «наполняет паруса нашего корабля», и совсем другое, когда от ветра «корабль раскачивается». Бондарев шел еще дальше и говорил о необходимости «нового Сталинграда». С другой стороны давили либеральные радикалы и радикальные либералы, называвшие себя демократами. Они давили как изнутри, так и извне. Интеллектуалы-изгнанники Ю. Любимов, В. Аксенов, А. Зиновьев и др., еще не вернувшиеся к тому моменту на родину, в письме, напечатанном 29 марта 1987 года в «Московских новостях», требовали от Горбачева доказательств серьезности и искренности его перестроечных намерений.
Но, как писал протопоп Аввакум, возвратимся на первое. Став ректором Историко-архивного института, Афанасьев быстро превратил его в некий форум, где при огромном стечении народа энергично «смывались белые пятна истории» и поднимались острые темы. Мой знакомый, замечательный историк древней Руси В. Кобрин, даже называл афанасьевский институт Меккой историков. Хорошо запомнилось одно из первых выступлений на тему «Сталин: личность и символ» сотрудника нашего Института Ю. Борисова. Вся улица перекрыта дружинниками и милицией. Толпа рвется по ступенькам в двери Института. Там «пробки». Лезут даже в окна. Шум, гам, как перед футболом. Секретарь Афанасьева провела /254/ нас, несколько человек, каким-то черным ходом, через двор. В зале — телевидение, журналисты с микрофонами. Суета страшная...
Историко-архивный институт тогда находился в старинном здании на ул. 25 Октября. В нем было тесно и сумрачно, а однажды в приемной ректора я заметил шмыгающих мышей. Это потом, когда после путча ГКЧП партийное имущество расхватывалось, пожалуй, похлеще, чем это делали в 1917 году кронштадтские матросы, «экспроприируя экспроприаторов», Институт перебрался в огромное, роскошное здание ВПШ на Миусах.
Выступление Борисова вызвало сенсацию. Прошло тридцать лет со времен ХХ съезда партии, на котором Хрущев свел Сталина с пьедестала. И с той поры «сталиноведение» совершало лишь попятное движение. Кажется, впервые с тех времен Сталин снова становился объектом исторической критики. Общественность взволновалась. Доклад, по перестроечным временам, был слабым. Борисов попал под огонь яростных вопросов, которые припирали его к стенке. А он пытался сохранить историческую объективность и к тому же, видимо, опасался выйти за привычно очерченный методологический круг. В итоге выходила примерно такая концепция: субъективно Сталин — преступник, но объективно он крепил государство и строил социализм.
Между тем борьба на историческом фронте все более разгоралась. В мае 1987 года, демонстрируя свой плюрализм (это словечко все больше входило в моду), «Московские новости» напечатали «Письмо четырех». Одним из «четырех» был бывший ректор Историко-архивного института Н. Мурашов, известный как «крутой» сталинист. Другим был заведовавший сектором истории Октябрьской революции нашего института П. Соболев — личность весьма колоритная… «Четверка» в идеологическом раздражении набросилась на Афанасьева, обвинив /255/ его ни много, ни мало в... троцкизме!
Но «линия Афанасьева» все более пробивала себе дорогу. Он стал своим в главной цитадели московской интеллигентской элиты — Центральном доме литераторов на ул. Воровского. Там шумно обсуждались его статьи, там он призывал вернуть «реки общественно-политических наук» в их естественное течение, громил наше «беспробудное единство». Из институтских его поддержали П. Волобуев и особенно историк гражданской войны В. Поликарпов.
Шло лето 1987 года.
«Московские новости», ставшие чуть ли не флагманом перестройки в СМИ, мощно вторглись и в историческую науку. Заведующий отделом морали и права В. Шевелев открыл рубрику «Былое». Она превратилась в широко открытое окно, куда ворвался свежий ветер истории. Сотрудничал в этой рубрике и я. Однажды произошел любопытный случай.
Звонит Шевелев, спрашивает:
«Мог бы ты написать для нас статью о “Протоколах сионских мудрецов”? У нас тут об этом никто ничего не знает».
Я пошел в спецхран Ленинки. Статью напечатали с врезкой: «Мистер Коул из Канады просит нас рассказать о “Протоколах сионских мудрецов”. Отвечаем на его просьбу». Наверное, это был знак: быть мне в Канаде!
Те, кто еще помнят «зарю перестройки», в ответ на вопрос о главных ее ударных отрядах наверняка назовут «Московские новости» при Егоре Яковлеве и «Огонек» при Виталии Коротиче. Но одним из зачинателей перестройки на историческом фронте была, пожалуй, и газета «Советская Россия». Та самая «Советская Россия», которую впоследствии демократы презрительно называли «Савраской» за ее пророссийский и прокоммунистический дух. Но поначалу «Советская Россия», возглавляемая тогда В. Чикиным, включилась в перестройку, понимая ее, конечно, по-своему. Между прочим, само выражение /256/ «прорабы перестройки» вышло из «Советской России». Она занялась ликвидацией «белых пятен» в истории. Немалую роль в этом сыграл заместитель Чикина В. Иванов. Он предоставлял страницы газеты многим нетрадиционным, ранее закрытым темам, трактуя их, правда, со старых позиций. «Советская Россия» напечатала, в частности, статьи о «военспецах», власовцах, о расстреле бывшего царя и его семьи в Екатеринбурге. Эта последняя публикация получила отклик даже за границей, хотя тогда еще мало кто мог предположить, что уже совсем скоро «романовская тема» вызовет настоящий бум.
Позиция, занятая «Советской Россией», — свидетельство того, что горбачевская перестройка на первых порах находила поддержку широких партийных кругов. Но они понимали и воспринимали ее ограниченно, в рамках существовавшей политической системы. Когда же стало ясно, куда идет дело, была дана партийная команда: стоп. Иванов был ленинец, а Ленин учил, что «середины нет», что о середине «мечтают барчата, учившиеся по плохим книжкам». В просторечии это, наверное, звучит так: дашь палец — отхватят всю руку. Оглядываясь теперь на прошлое, на то, что произошло за последние пятнадцать лет, иногда думаешь: не прав ли был Ленин? Вечный «больной вопрос»: компромисс или твердость? Уступать или стоять на своем?
И все-таки не случайно Е. Лигачев выбрал «Советскую Россию», чтобы в марте 1988 года напечатать в ней нашумевший «манифест антиперестройки» Нины Андреевой, названный «Не могу поступиться принципами». Кстати, Иванов очень ярко по секрету рассказывал, как уже после публикации статьи Андреевой Чикину позвонил Горбачев и крыл его многоэтажным матом. /257/
«Дальше, дальше...»
А в «Доме на набережной» у М. Шатрова по-прежнему собирались многие из тех, для кого горбачевская перестройка значила несравненно больше, чем хотели в «Советской России». Обсуждали готовящуюся к постановке в Вахтанговском театре пьесу «Брест» и замыслы новой пьесы, позднее названной «Дальше, дальше, дальше...», о последних годах жизни Ленина. «Брест» когда-то был блокирован Интитутом марксизма-ленинизма, но теперь спешно дорабатывался с учетом открывшихся возможностей.

В просторной и хлебосольной квартире Шатрова часто бывали О. Ефремов со своим театрально-литературным «оруженосцем» А. Смелянским, Е. Амбарцумов, его друг А. Цыпко, в то время резко перестроечный, а позднее, кажется, превратившийся в «кающегося либерала». Приходили А. Гельман, А. Ваксберг и многие другие умы и таланты. Чаще всего,
Михаил Шатров конечно, бывали люди театра и особенно много звезд МХАТа. Театр переживал тяжкий кризис: столкнулись «ефремовцы» и «доронинцы». У Шатрова бывали «ефремовцы», которые рассказывали, будто «черносотенные доронинцы» распространяют слухи о Ефремове как человеке, «прилежащем к питию хмельному» и потому попавшем под влияние /258/ «шатровых, гельманов, смелянских».
Сгрудившись за большим столом в гостиной, народные и заслуженные под руководством Смелянского писали «наверх» разного рода бумаги в защиту своих позиций.
Нередко обсуждения пьес и даже писание некоторых их отрывков переносились в Переделкино. Тут бывал М. Рощин, последними словами крывший всю «советскость». Заходил А. Рыбаков, уже прославившийся «Детьми Арбата» и собиравший материалы для книги о времени московских процессов. Маленький крепыш, с хмуроватым лицом, он производил впечатление очень волевого, напористого, уверенного в себе человека. Однажды он прокомментировал статью некоего А. Горбачева из журнала «Молодая гвардия», направленную против «сверхперестроечности» «Огонька» и «Московских новостей»:
«Для “молодогвардейцев” перестройка — это угроза проникновения в Россию “Запада”, точнее — масонства, еще точнее — еврейства. А им бы хотелось перестройки на славянофильский манер». — «По вашему мнению, Анатолий Наумович, осилят они?» — спросил кто-то из присутствовавших. «Да они трусы, — сказал Рыбаков. — Надо только стукнуть кулаком по столу!» — «Кто же стукнет-то?» — обратились к нему. «Горбачев должен, а он медлит, тянет, колеблется».
«Молодая гвардия» и «Наш современник» являли собой «базы» русских националистов. Они, конечно, не были трусами. Их можно было понять: они душой болели за Россию. Рыбаков рассказывал о письмах, получаемых им от читателей «Детей Арбата». Всего этих писем было более пятисот, а отрицательных, по его словам, — только 10 %. Рыбаков был явным «перестроечным оптимистом», в отличие от А. Ваксберга из «Литературки», этого советского «разгребателя грязи». В августе 1987 года, когда Москва хоронила артиста Андрея Миронова, в Переделкино приехал мрачный Ваксберг.
«Перестройка, — сказал он, — скончалась, как Миронов. Кажется, только один Миша не понимает этого». («Мишей» был Горбачев.)
Впрочем, настроения Ваксберга менялись. /259/ В нем было нечто легкое, блестящее, французское. И актерское. Он производил впечатление человека, весьма информированного, но, увы, вынужденного не делиться даже с близкими тем, что знает.
Шатровскую пьесу «Дальше, дальше, дальше...» обсуждали не раз и при большом стечении известных людей. Часто сидели до глубокой ночи. На пьесу делалась большая ставка. Считали, что ее постановка в ефремовском МХАТе может повлиять на общественную атмосферу в пользу перестройки. В сентябре 1987 года Шатров читал ее у себя в «Доме на набережной». Слушали Ефремов, Табаков (его все звали Лёлик), А. Смелянский, историк В. Логинов. Ефремов слушал очень внимательно, даже напряженно, беспрестанно курил. Примерно через три часа чтение закончилось, наступила пауза. Потихонечку разговорились. Сошлись на том, что пьеса перенасыщена фактическим материалом, кто-то заметил, что в ней еще чувствуются пропагандистские «нажимы». Потом состоялось другое чтение. На сей раз на нем присутствовали преимущественно наши институтские историки: В. Данилов, В. Лельчук, еще кто-то. Были Афанасьев и внучка Хрущева — Юлия. Общее мнение склонялось к тому, что следует сильнее обличить Сталина, подчеркнув уголовный характер его деяний. Запомнилось то, о чем говорил Данилов. Он считал, что ставший модным идеологический знак равенства между Сталиным и Троцким неверен: они разные. Афанасьев не согласился, возразил: «Два сапога пара». Лельчук говорил о политическом одиночестве Ленина в начале 20-х годов. Потом от пьесы перешли к общей ситуации. Афанасьев высказался в том смысле, что события в стране уже пошли дальше пьесы. /260/
Высокие потолки ИМЛ
В начале октября 1987 года «Дальше, дальше, дальше...» все же была принята к постановке во МХАТе. Несколько раз по просьбе Шатрова и Ефремова наши институтские историки приходили в театр, чтобы помочь актерам приблизиться к той эпохе. Прудкин, Смоктуновский, Борисов, Любшин, Калягин, Кашпур, Васильева, Мягков и другие артисты слушали наши рассказы, задавали вопросы. Сергачева, например, очень волновала роль масонов.
Дело дошло уже и до распределения ролей. Смоктуновский должен был играть Керенского, а Борисов — Сталина. По небольшой реплике, брошенной Керенским (Смоктуновским) Сталину (Борисову), мне стал понятен масштаб Смоктуновского-актера. Обращаясь к Сталину, Керенский говорит с презрительной интонацией:
«Что касается вашего понимания революции, то об этом я уже читал в вашей работе “Краткий курс истории Ве... Ка... Пэ.... Бэ!”».
Кто-то засмеялся: так выразительно это было сказано. Смоктуновский спросил: «Что, понравилось? Запишем!». И сделал пометку в своем тексте пьесы. Сидевший рядом со мной Борисов, покосившись на Смоктуновского, сказал с кавказским акцентом:
«Он еще нэ пачувствовал мою руку... Нычэго, скоро пачувствуэт!»
Между тем обстановка на фронте истории непрерывно усложнялась. У нас в Институте истории «зашатались» сектора, тематически связанные с советским периодом. Было ясно, что на прежних позициях, определяемых решениями съездов КПСС и пленумов ЦК, уже не удержаться. К тому же стал чаще болеть неформальный глава «революционной тематики» Минц, переваливший за девяносто лет. А уже упоминавшийся П. Соболев, в свете происходивших событий, казался просто динозавром. Институт марксизма-ленинизма, наоборот, активизировался. В середине /261/ сентября 1987 года опять зашла речь о подготовке новой книги по истории КПСС, рассчитанной на самый широкий читательский круг.

Нас пригласили к директору ИМЛ академику Г. Смирнову, которого в историко-партийных кругах звали Лукичом. Лукич был крупным мужчиной, на лице которого выделялись очки с толстыми стеклами. Но и они не скрывали его сильнейшей близорукости, что придавало лицу мягкое, доброе выражение. В огромном директорском кабинете, устланном мягким ковром, собралось несколько наших институтских и сотрудников ИМЛ. Присутствовал и главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев, ранее известный как лениновед. Впрочем, это было единственное заседание нашей группы, на которое он пришел.
Смирнов говорил просто, ясно. Не чувствовалось никаких следов «академичности». Он сказал,
что о книге уже думают в Политбюро. Решения пока никакого нет, но оно вот-вот может последовать, и уж тогда-то для работы будут созданы все условия, в том числе проживание членов группы на даче ЦК, скорее всего — в Серебряном Бору. Затем стали задавать вопросы. Хотелось знать, насколько все же расширяются рамки для свободного изложения материала. Лукич поднял палец вверх и сказал:
«Видите, какие в ИМЛ высокие потолки? И для вас устанавливаются такие же очень высокие потолки. Очень».
Через десять лет после описываемых событий мне попалась /262/ книга Лукича, его мемуары «Уроки минувшего». Смирнов рассказывает там о том, как у него росло отрицательное отношение к горбачевской перестройке:
«Речи Михаила Сергеевича о социалистическом выборе, великой правоте Октябрьской революции, об укреплении социализма в СССР через перестройку — не более чем пустая риторика, предназначенная для маскировки и обмана людей».
Неужто так и было?
Время шло к 70-й годовщине Октябрьской революции, и общественность, по традиции, ждала «руководящего» выступления. Никто не сомневался, что на сей раз выступит сам Горбачев: и дата круглая, и время сложное, снова переходное...
«Говори!»
А по Москве повсюду — в научных учреждениях, издательствах, редакциях — что ни день, возникали разные круглые столы, за которыми шли горячие споры о прошлом и настоящем. Часто бывавший в «Доме на набережной» юный длинный симпатяга Саша Буравский сразу стал знаменит своей пьесой, которая называлась «Говори!». Ее поставил в Театре Ермоловой Валерий Фокин, и попасть на спектакль было очень трудно. Над входом в театр долго висело полотнище с надписью «Говори!».
И Москва, во всяком случае в лице так называемой интеллектуальной элиты, говорила. У меня частично сохранились пригласительные билеты на эти круглые столы и другие встречи в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОН), в редакции БСЭ, Педагогическом институте им. Крупской, МГУ, Институте ядерных исследований, Доме политпросвета горкома партии (на Трубной), Главном архивном управлении, в редакции «Правды», Центральном доме литераторов, АПН и др. Говорили чуть ли не взахлеб. Вспоминался донской атаман Каледин, который, обращаясь к Донскому правительству /263/ в январе 1918 года, сказал: «Господа, говорите короче! Ведь от болтовни погибла Россия!».
В АПН его глава В. Фалин, похожий на монаха какого-то католического ордена, собрал у себя «звезд перестройки» — Ю. Афанасьева, философа А. Бутенко, историков П. Волобуева, В. Поликарпова, еще несколько человек. Говорили опять взахлеб. Несколько часов. Афанасьев теперь уже отвергал поколебленные, но еще не отброшенные рамки марксизма-ленинизма.
«То, что мы сотворили, — говорил он, — это с социализмом не имеет ничего общего. Тут нечего подсчитывать плюсы и минусы. Теперь требуется национальное покаяние за революцию и за все то, что делалось впоследствии, за стремление установить во всем мире наши порядки».
Он напомнил всем, как на ТВ, в программе «Время», наша пятиконечная звездочка облетает, охватывает весь земной шар. Резко отозвался Афанасьев о нашем старике Минце (а был когда-то его аспирантом):
«Самый рьяный проводник сталинских схем в истории».
Хорошо выступил Волобуев. Он говорил о возможных альтернативах 17-му году, и это прозвучало очень актуально, так как все чувствовали, что страна опять на развилке дороги: направо пойдешь, налево пойдешь...
В первых числах ноября наконец выступил Горбачев. Он намного больше, чем обычно в такого рода докладах, сказал о Февральской революции, но об Октябре, несмотря на некоторые новшества, говорил в привычных рамках «героической концепции». Некоторые «прорабы перестройки» сокрушенно цокали языками: ждали большего.

6 ноября состоялся прогон шатровского «Бреста» в Театре Вахтангова. Спектакль поставил знаменитый грузинский режиссер Р. Стуруа, М. Ульянов играл Ленина, В. Лановой — Троцкого, А. Филиппенко — Бухарина. Перед входом в театр я встретил Афанасьева. Он кого-то ждал. Я спросил его, /264/
что он думает о докладе Горбачева. «Да, подвел нас Михаил Сергеевич, подвел!» — сказал он то ли сокрушенно, то ли с пониманием того, что так оно и должно было случиться.
Я пришел в боковую ложу, где мне было отведено место, еще до звонка, но вбежавшая билетерша в панике буквально выгнала всех, кто там находился: оказывается, на премьеру прибыл сам
Горбачев с Раисой Максимовной, М. Горбачев. Середина 80-х гг. и охрана, видимо, осматривала зал. Когда высокие гости появились в своей ложе, их приветствовали аплодисментами, но не слишком бурными. Спектакль был встречен хорошо. Ульянов спрыгнул со сцены, подошел к ложе, обнимался и целовался с Горбачевым и Раисой... И все же осталось какое-то странное впечатление. Ленин дико кричал, падал на пол, становился перед Троцким на колени, умолял его подписать мирный договор в Бресте. А Троцкий появлялся из стены в бурке, со свечой в одной руке и дирижерской палочкой в другой...
Но «Брест» был уже пройденным этапом. Ефремов хотел поставить свой спектакль, сказать слово, способное повлиять на общественный настрой. Это он связывал с «Дальше, дальше, дальше...». Пьеса уже была передана главному редактору «Знамени» Г. Бакланову, но он, естественно, не мог напечатать ее в журнале без санкции ИМЛ. Обратились туда. За подписью Лукича пришла какая-то кислая бумага с разного рода замечаниями. Смысл их сводился к тому, что нельзя отрицать заслуги Сталина в деле построения социализма, и что социализм /265/ построили, хотя, конечно, были допущены ошибки и просчеты. Бухаринская же альтернатива Сталину (Бухарина в это время пытались поднять на пьедестал) «не учитывает фактора времени».
Снова состоялся сбор в «Доме на набережной». Приехавший Ефремов сказал, что «Брест» Стуруа ему не по душе, что на самом деле просто существовала «малина» с паханом, крестным отцом и т. п. Тут же он изобразил это свое понимание в лицах. Ему же хочется, чтобы Ленин был показан как человек, создавший Сталину условия для его власти, но ужаснувшийся содеянному. Его поддержал Л. Карпинский, который говорил, закуривая одну сигарету за другой.
Примерно в это же время на небосклоне Научного совета появился любопытный человек. Его звали Гелий Рябов. В узких кинематографических кругах он был довольно широко известен как сценарист фильма «Рожденные революцией», посвященного первым годам советской милиции. Этот фильм был удостоен Государственной премии. Теперь Гелий Трофимович замыслил создание многосерийного исторического полотна о гражданской войне. Фильм, по его словам, должен был покончить с «однобокостью», с героизацией красных и очернением белых. В нашем институте, вернее, в Научном совете, Рябов хлопотал о бумаге, позволяющей ему подкрепить заявку на такого рода фильм. Старик Минц бумагу подмахнул, но на этом мои встречи с Рябовым не прекратились.
Однажды (это было уже в 1988 году) я побывал у Рябова дома. Прошли в его комнату-кабинет, и я... ахнул от неожиданности. Все стены комнаты были увешаны портретами и фотографиями царствовавших особ, великих князей, белых генералов и т. д. Тут Рябов поведал, что еще в 1979 году, вместе со своим приятелем-геологом, он, опираясь на некоторые секретные архивные материалы и прежде всего на сверхсекретную «Записку Юровского» (коменданта Ипатьевского /266/ дома в 1918 году), хранившуюся в партархиве, нашел и раскопал место, где Юровский с товарищами тайно погребли останки царской семьи и ее слуг. Таким образом, он нашел то, что не мог найти в 1919 году колчаковский следователь Н. Соколов, ходивший по деревенскому настилу на Коптяковском проселке в Поросенковом лугу и не подозревавший, что там, под настилом, — царские останки. Не верилось глазам и ушам. А Рябов показывал какие-то бережно хранимые альбомы, экспонаты, небольшую коробочку, под стеклом которой лежали рыжеватые волосы, по убеждению Рябова, чуть ли не с головы самого императора. Все это представлялось невероятным!
Впоследствии Г. Рябов опубликовал книжку «Как это было», в которой изложил историю поисков останков бывших венценосцев, историю всего, что происходило вокруг, а также свое монархическое кредо. Эта книга наводит на мысль, что «тайные раскопки» Рябова и его приятеля имели какую-то не менее тайную поддержку со стороны «сильных мира сего». Одним из этих «сильных» мог быть министр внутренних дел брежневско-андроповского времени Н. Щелоков — могучая фигура с трагической судьбой: он сам и его жена покончили жизнь самоубийством. Если за спиной Рябова действительно незримо стоял Щелоков, то чего он мог хотеть? Какую цель преследовал?
«Белые пятна», связанные с убийством бывшего императора и его семьи, не только исчезали с исторической карты, но неожиданно «оживали»! Одним из таких «белых пятен» был комиссар В. В. Яковлев (К. Мячин), по заданию Свердлова перевозивший Романовых из Тобольска в Екатеринбург весной 1918 года. Его судьба прослеживалась примерно до осени 1918 года, а потом он исчезал. И вдруг... Из Свердловска раздался телефонный звонок. Объявилась дочь того са-мого Яковлева! Позднее Елена Константиновна (так ее звали) побывала в Москве, привезла обширный архив отца, /267/чудом сохранившийся после его ареста в 1938 году. Материалы архива не давали точного ответа на вопрос, какую же цель преследовала Москва, вывозя бывшего царя и его семью из Тобольска. Из яковлевских документов следовало, что Екатеринбург стал для них вынужденной остановкой. «Эпопея Яковлева» порождала несколько версий. Вместе с тем она отражала какую-то неопределенность позиции самих большевистских «верхов» относительно судьбы Романовых, и не исключено, что Ипатьевский дом стал трагическим итогом взаимодействия разных сил: стихии событий, борьбы политических группировок и решений вполне конкретных людей.
Скоро, как уже сказано, «романовская» тема вырвалась из-под многолетнего сурового запрета и прямо-таки захватила умы. Ясно было, что ее старались использовать в политических целях. «Национально-патриотические» круги — в одних, а «либеральные» — в других. Началась настоящая пляска на костях.
«Не изменяй теченья дел»
В начале 1988 года группу, назначенную для создания новой книги по истории КПСС, пригласили в ИМЛ. Но уже чувствовалось, что этот замысел опаздывает, так как подули ветры, ничего общего с КПСС и ее историей не имеющие. На этом сборе Лукич призвал присутствовавших «не выносить за стены ИМЛ то, что здесь говорилось», хотя было совершенно непонятно, что именно тут говорилось, не подлежащее разглашению. После этого предупреждения Лукич удалился, а заседание повел его заместитель В. Журавлев, сделавший в ИМЛ быструю карьеру. Обсудили предложенный график и решили представить первый вариант текстов к марту.
12 января 1988 года в «Правде» появилось «письмо ветерана» — Б. Мухина.
«Очень жаль, — говорилось в нем, — что в такое замечательное время развития Октябрьской революции /268/ встречаешь писания, когда иной автор бездумно или с умыслом, вкривь и вкось передергивая события и факты, пытается дискредитировать героев прошлого, а по сути наш строй, нашу историю, все, что нам дорого и свято».
Все понимали, что когда дело доходит до «слова ветеранов», то это серьезно, и действительно, та же «Правда» в конце января и в феврале «ударила» по «Дальше, дальше, дальше...». Некоторые институтские историки попытались организовать ответ. Сразу же выявились твердые «подписанты», те, кто потихоньку «отваливали», и колебавшиеся. Хотели подключить к списку подписавшихся двух академиков — И. И. Минца и А. М. Самсонова. Самсонов подписал, а Минц под разными предлогами увильнул. Увильнул и профессор Историко-архивного института, старик Е. А. Луцкий. Это был сын знаменитого большевика А. Луцкого, сожженного в паровозной топке вместе с С. Лазо на Дальнем Востоке в 1918 году. А вот сын не решился поставить подпись под никому не нужным письмом. Путь, пройденный большевизмом... Но он будет понятен, если сказать, что молодой Луцкий был учеником главного в свое время советского историка М. Н. Покровского и вместе с некоторыми другими его учениками участвовал в поношении учителя. Как писал Троцкий, «шло освобождение мещанина из большевика».
В середине марта грянула уже упоминавшаяся статья Нины Андреевой. Завоевания Октября, говорилось в ней, под угрозой со стороны тех, кого Октябрь не успел искоренить: кулаков, нэпманов, басмачей по духу, «наследников Дана, Мартова, Троцкого, Ягоды». Такие люди и раньше хотели, и теперь хотят влить в Россию отраву капиталистического Запада. Прошлась Андреева и по Шатрову: повторяет-де сочинения троцкиста Б. Суварина.
Пока «буксовала» шатровская пьеса «Дальше, дальше, дальше...», В. Фокин — парень с волевыми лицом и голосом — намеревался поставить в театре им. Ермоловой «Второй день свободы» A. Буравского. Спектакль этот /269/почему-то не пошел, а в нем имелось нечто созвучное нашему времени. Речь шла о французских революционерах конца ХVIII века. Вот они уже зашли далеко, уже пошла террористическая резня, мясорубка. Робеспьер в задумчивости: остановиться? Кутон требует другого: дальше, дальше, иначе сметут. Тут пьеса обрывалась.
В те же дни мне довелось побывать в Ждановском райкоме КПСС. В кабинете первого секретаря, молодой и энергичной Р. Жуковой, собралась верхушка райкомовского аппарата. Шатров и бывший сотрудник ИМЛ В. Логинов говорили об истории и перестройке. Пили чай с «заморским» печеньем. Потом Жукова рассказывала много такого, что сегодня выглядит как некое предвидение. В горбачевских кооперативах, говорила она, пока — жулики, в перестройке — горлопаны. Старики уходят из партии («не могу быть полезным», «нечем платить взносы» и т. п.). Экономика не работает, указания «по звонку» сохраняются. Густым потоком пошло рвачество, махровое корыстолюбие. Идет просто «расхищение советского пирога»...
4 апреля в ВТО состоялась прямо-таки незабываемая (по крайней мере, для меня) встреча авторского коллектива «Московских новостей» с театральными деятелями. Пробиться в зал было невозможно. Смелянский просто протащил нас (В. Логинова, Н. Наумова из МГУ и меня) какими-то черными лестницами прямо на сцену, принесли стулья, и мы расположились за спинами выступавших. Весь зал был перед нами. Заметил Б. Окуджаву, писателя В. Кондратьева, космонавта А. Гречко, многих актеров «Таганки». Журналистка Евгения Альбац требовала суда над «сталинскими следователями», еще какая-то дама громила Нину Андрееву. Экономист Лисичкин призывал к «очищению марксизма» и к «расшифровке (?) Политбюро». Потом к микрофону подошел Юрий Карякин, в конце 50-х годов — мой знакомец по журналу «История СССР», ставший теперь боевым «прорабом перестройки». /270/ Позднее, в 2007 г., он напишет мемуары «Перемена убеждений (от ослепления к прозрению)», в которых объясняет, как и почему произошла эта перемена. Как из идеолога партии он превратился в «гонителя коммунизма». Понять все же нелегко... Я внимательно прочитал книгу. Да, свои убеждения он переменил, но позволило ли ему это прозреть?
Карякин говорил языком Достоевского о «сокровенной тайне перестройки: спасении России от безнравственности, позора и греха стукачества». После Алексея Аджубея, который рассказал о том, как в 1964 году аппаратчики сняли Хрущева, вышел похожий на нахохлившуюся птицу косолапый Гавриил Попов. Он призывал к тому, чтобы уж на сей раз никоим образом не допустить очередного триумфа аппаратчиков, клялся, что теперь прогрессивная интеллигенция будет стоять до последнего. «Элита» интеллигенции распалялась, раскаляла себя. В двадцатых числах апреля в Доме ученых на Кропоткинской собралась «Московская трибуна», по случаю состоявшихся выборов Съезда народных депутатов. Особо долгой овацией встретили А. Д. Сахарова. Афанасьев говорил, что партия уже явно отстает от темпа тех демократических процессов, которые идут в обществе. Е. Амбарцумов чуть ли не предлагал провозгласить Съезд Учредительным собранием и во всяком случае создать Клуб реформистски настроенных депутатов. В том же духе говорили Галина Старовойтова, Гавриил Попов, Леонид Баткин, Юрий Карякин. Все в зале ждали слова Сахарова. Он сказал, что противники перестройки напуганы пробуждением народа, что сейчас необходимо ускорение перестройки «без остановки». Владимир Лукин призывал к тому, чтобы объявить заседания Съезда непрерывными, добиться «диктатуры депутатов».
В эти майские дни в Москву прибыл президент США Рональд Рейган. «Известия» разразились статьей о том, кто
/271/ именно был приглашен на встречу с ним в американское посольство. Главным образом это были диссиденты и отказники, которые, по мнению газеты, никак не представляют советское общество и те процессы, которые сейчас в нем идут. Рейган выразил удовлетворение происходившими переменами, но подчеркнул, что этого мало: «Мы хотим все большего». А закончил он свою речь словами Пушкина: «Пора, мой друг, пора...». Но ведь у Пушкина дальше: «Покоя сердце просит...». К тому же это сугубо личное, а вот пушкинский Борис Годунов учит политике своего сына Федора: «Не изменяй теченья дел. Привычка — душа держав».
В команде «архитектора перестройки»
Уже не помню, как замысел написания популярной книги по истории КПСС «в духе перестройки» перерос-перетек в идею создания большого труда по истории большевизма. Произошло это, кажется, осенью 1988 года. Многим членам группы из ИМЛ было объявлено, что 4 ноября их приглашают на Старую площадь, в ЦК. Объявление это было сделано В. Наумовым, который перед перестройкой некоторое время заведовал (после академика М. В. Нечкиной) сектором историографии, а затем перешел в Институт марксизма-ленинизма. Вероятно, там по работе он оказался связан с А. Н. Яковлевым. В своих воспоминаниях «Омут памяти» (М., 2000 г.) тот упоминает о нем как об особо доверенном человеке, «консультанте по реабилитации».
Человек двадцать пять — тридцать собрались на Старой площади, и через первый подъезд, предводительствуемые Наумовым, проследовали наверх мимо двух офицеров в форме КГБ. Тишина в коридорах. Сосредоточенно шествуем по ковровым дорожкам.
Нам заранее сказали, что группу возглавит /272/ Яковлев.
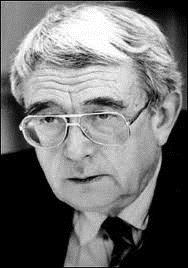 Странным образом мои пути пересеклись с Яковлевым дважды. Я узнал об этом лишь спустя полвека из уже упомянутых его воспоминаний. Оказывается, в 1941—1942 годах Яковлев был курсантом пехотного училища,
А. Н. Яковлев. Середина 80-х гг. эвакуированного из Ленинграда в удмуртский город Глазов, а я был тогда там в эвакуации и какое-то время даже работал в оружейной мастерской училища. Зимой мы, пацаны, лихо спускались на лыжах с высокого берега реки Чепцы, наблюдая снизу, как неуклюже съезжают с горы курсанты в шинелях и кирзовых сапогах. Наверняка среди этих курсантов я видел и Яковлева — будущего «архитектора перестройки».
Странным образом мои пути пересеклись с Яковлевым дважды. Я узнал об этом лишь спустя полвека из уже упомянутых его воспоминаний. Оказывается, в 1941—1942 годах Яковлев был курсантом пехотного училища,
А. Н. Яковлев. Середина 80-х гг. эвакуированного из Ленинграда в удмуртский город Глазов, а я был тогда там в эвакуации и какое-то время даже работал в оружейной мастерской училища. Зимой мы, пацаны, лихо спускались на лыжах с высокого берега реки Чепцы, наблюдая снизу, как неуклюже съезжают с горы курсанты в шинелях и кирзовых сапогах. Наверняка среди этих курсантов я видел и Яковлева — будущего «архитектора перестройки».
Прошло много лет. Яковлев сделал блестящую карьеру: работал в ЦК. В мемуарах он пишет, что мать не советовала ему идти на партийную работу: «Не езжай, Ляксандр!». Он не послушался.
В 1972 году Яковлев стал первым из ведущих партийных идеологов, выступившим против поднимавшего голову великодержавного шовинизма. Этот шовинизм провозглашался тогда главным образом в журнале «Молодая гвардия», который призывал власть опираться не на прогнившую, обмещанившуюся, прозападную интеллигенцию, а на простой, трудовой народ, его национальную самобытность. С одной стороны, это представляло опасность для правящего режима многонациональной страны, но с другой — блокировало опасность диссидентства, действительно ориентировавшегося на западные ценности. В общем, в идеологической сфере возрождалось что-то подобное старым спорам западников и /273/ славянофилов.
А. Н. Яковлев выступил против «советского славянофильства», опубликовав в сентябре 1972 года в «Литературной газете» статью под классически партийным названием: «Против антиисторизма». Статья нашумела, но задачу свою не выполнила, да и не могла выполнить. Так называемая марксистско-ленинская идеология трещала по всем швам. Но Яковлеву, вскоре «сосланному» послом в Канаду, эта статья принесла имидж борца за демократию, прежде всего в кругах интеллигенции…
Был ли Яковлев теперь, когда мы с ним познакомились, уже членом Политбюро, не помню, но то, что вся идеология находилась, как тогда говорили, под его кураторством, было известно. Более того, за ним уже закрепилось звание «архитектора перестройки». И вот мы сидим в здании ЦК на Старой площади и ждем явления самого архитектора. Открывается дверь, скорее всего из «комнаты отдыха». Вот и он. Идет, сильно хромая (не сгибая одну ногу), к столу. Лицо у него русское, мужичье, добродушное. Улыбнулся совершенно детской улыбкой. А между тем совсем скоро он превратится в глазах многих в тайного «агента влияния», разрушителя государства.
Для чего же мы созваны здесь, что нам предстоит делать? Мы должны написать совершенно новую историю большевизма, историю КПСС. Этот труд должен быть предельно честным, предельно научным и предельно ответственным. Что значит «ответственный», не очень ясно, остается только догадываться. Всем предстоит большая работа по новому прочтению Ленина. Нужно совершенно непредвзято посмотреть на то, почему и как именно Россия стала полем применения марксизма. Далее, почему ленинизм оказался подвергнут ревизии в теории и на практике, от которой мы никак не можем отойти. Особенно сложными, понятно, будут 30-е — 40-е годы. Вот тут надо осмыслить всю неоднозначность ситуации: трагедия революции и вера народа в ее идеалы. Нас /274/ ожидает масса подводных камней, когда нам придется выбирать между эмоциями и фактами, о которых нам еще предстоит узнать. «Мы сейчас реабилитируем людей, — говорил Яковлев, — ставших жертвами сталинщины, но многие из них подхалимничали перед Сталиным, сами писали доносы. Придется держать эмоции в узде науки...» Писать надо хорошим русским языком, чтобы читателю было интересно, чтобы его увлекало.
Наиболее волнующим был вопрос об использовании архивов. Хотелось попасть в архивы Политбюро, Совета министров, КГБ и др. Возможно ли? Из ответов Яковлева полной ясности не наступило, но то, что нас все-таки пустят туда, куда раньше попасть было практически невозможно, было сказано определенно. Если научной базой всего нашего предприятия становился Институт марксизма-ленинизма, а архивной — Центральный партийный архив (ЦПА), то в качестве материальной базы предлагалась одна из дач ЦК в Серебряном Бору. Там для желающих предоставлялась возможность жить в отдельной комнате, бесплатно питаться. Туда же, по нашей просьбе, могли даже доставлять нужные книги и архивные материалы. Нетрудно было догадаться, что желающие, как шутили, «пожить при коммунизме» найдутся. Я, однако, в этот «рай» не пошел: дома было уютней, удобней.
Вообще такие «дачные сидения» давно являлись способом подготовки руководящих и указующих документов руководства. Разного рода консультанты из аппарата ЦК в этом «дачном затворничестве» сочиняли требуемое, тщательно взвешивая каждое слово, каждую фразу и каждый абзац. Таким образом и рождались разного рода программы, тезисы ЦК к важным юбилеям, доклады, с которыми выступали генсеки или члены Политбюро. Среди «дачников» имелись свои «консерваторы», «центристы» и «реформисты». В процессе составления документов они боролись за «свою строчку» или «свое выражение», которые потом ушлые читатели толковали как то или иное свидетельство поворота курса партийного руководства. Но наша группа была, конечно, и рангом пониже, да и положение и возможности руководящего партаппарата были уже не те... Все действительно познается в сравнении. После небывалых, невиданных хорόм олигархов и «новых русских», вынесенных на поверхность переменами при Горбачеве и Ельцине, те «коммунистические» дачи и резиденции кажутся жалкими. А ведь борьба с советским режимом началась как борьба с привилегиями. Если бы знать, чем она закончится!
Наша дача в Серебряном Бору представляла /275/ собой двухэтажный дом за глухим забором, въехать за который можно было только через пропускной пункт. Комнаты метров по десять, зал заседаний, внизу столовая. На этой даче находились и яковлевские аппартаменты, похожие на хороший гостиничный номер, состоящий из двух комнат. Яковлев приезжал на большом черном лимузине. Охранник открывал дверцу, и появлялся «сам». Всех стоявших на крыльце он неизменно приветствовал доброй, мягкой улыбкой.
Работа, в общем, пошла довольно бойко. Используя предоставленные возможности, большинство устремилось, прежде всего, в бывший Центральный партийный архив на Советской площади, что за памятником Юрию Долгорукому. Архивы — это блаженство. Архивисты — бескорыстные работяги. Они уважали тех, кто ходит к ним постоянно и долго. Они-то знали, сколько надо перелопатить, чтобы выудить что-то важное, интересное.
Листаешь старые папки с официальными документами, записками, письмами, воспоминаниями и ждешь: вот сейчас откроется что-то важное, что-то неизвестное, тайное и, наконец, многое станет /276/ ясным, объяснимым.
* * *
За годы советской власти было написано немало коллективных историй партии. Но группа Яковлева оказалась последней, которая должна была подготовить еще одну. Группа была подобрана таким образом, что большинство в ней так или иначе в доперестроечные годы проявляли некий нонконформизм: интерес к нетрадиционной тематике, стремление уйти от старых штампов, способность различить тона и полутона.
«Номером один» в ней, конечно, был академик П. В. Волобуев. Смещенный с поста директора, Волобуев, как уже отмечалось, вернулся в Институт истории СССР уже во времена перестройки и вскоре сменил Минца на посту председателя Научного совета по истории Октябрьской революции. Естественно, что с такой научной биографией он не мог не занять подобающего места в группе Яковлева.
Из академических «небожителей» в группу вошел член-корреспондент, а ныне академик Ю. А. Поляков — большой эрудит, владевший пером, что встречалось не так часто. Заметной фигурой был и В. П. Данилов — во времена хрущевской оттепели секретарь парткома Института истории СССР, отстаивавший свободу исторического творчества в рамках ленинизма. Данилов — историк советского крестьянства, и много сделал для создания правдивой истории коллективизации, за что жестко преследовался отделом науки ЦК. Нельзя не вспомнить и покойного ныне ленинградца В. И. Старцева — автора многих книг по истории России первой четверти ХХ века. Он принадлежал к школе известного источниковеда С. Н. Валка, придававшего особое значение анализу исторического документа. Уже одно это ставило ленинградцев в определенную оппозицию к официальной истории, и ортодоксы на них смотрели чуть ли не как на скрытых диссидентов.
Был в группе никогда, казалось, не унывавший В. С. Лельчук /277/ — историк советской индустриализации, сильный полемист. У него, несомненно, был ораторский дар, он любил выступать, говорил легко, остроумно. Упомяну еще С. В. Тютюкина, до перестройки ходившего в проштрафившихся за «объективистскую» книгу о борьбе внутри российской социал-демократии во время Первой мировой войны, а также В. Т. Логинова из Института марксизма-ленинизма — друга и соавтора М. Шатрова по некоторым фильмам. Несомненно, интеллектуальной величиной в группе был Е. Г. Плимак. Он много и интересно писал о Радищеве, Нечаеве, марксизме.
Из других членов группы нельзя не вспомнить Л. М. Спирина, работавшего тогда в Институте марксизма-ленинизма, но, кажется, единственного, кто занимался там историей, как тогда говорили, непролетарских партий. В 70-х годах Спирин принадлежал к числу очень немногих, кто начал заниматься историей контрреволюции, к которой в то время причисляли все, что не было связано с большевизмом. Входил в группу и Л. К. Шкаренков, одним из первых взявшийся за изучение истории белой эмиграции. Издательство «Мысль» двумя изданиями выпустило его книгу «Агония белой эмиграции». Конечно, она не могла не быть политически тенденциозной, но собранный в ней материал по тем временам впечатлял. Помню также представителя Интитута военной истории полковника В. М. Кулиша и сотрудника Института всеобщей истории, занимавшегося там историей Второй мировой войны, — О. А. Ржешевского. Из бывшего журнала «Коммунист» остался в памяти совсем еще молодой О. В. Хлевнюк. Увы, большинства из мною названных уже нет на свете…
Способны ли были эти историки решить действительно трудную задачу: написать подлинно исследовательскую, объективную историю большевизма, а практически — политическую историю страны? Многое было за то, чтобы ответить «да». Практически все готовы были отбросить шоры, которые /278/ считались «марксистско-ленинским методом», а на деле являвшиеся эклектической трухой, состоявшей из набора цитат, подгоняемых под политическую конъюнктуру. Почти все являлись людьми, испытавшими влияние постсталинской оттепели, ХХ съезда партии. И все искренне поддерживали перестройку. Такие люди, как Волобуев, Поляков, Тарновский, Плимак, Тютюкин, Данилов и другие вообще являли собой блестящие умы.
Конечно, некоторые талантливые историки (A. В. Игнатьев, А. Я. Грунт, В. Д. Поликарпов и др.) по разным причинам, к сожалению, оказались за бортом. Но дорога в группу никому не была заказана. Яковлев на первом же совещании объявил, что работа будет идти на соревновательной основе. Готовые главы или части будут печататься в журнале «Вопросы истории КПСС» для широкого обсуждения. И многое действительно уже тогда было напечатано. Не могу не вспомнить здесь сотрудника журнала М. Кольцова, включившегося в нашу работу с большим энтузиазмом. Он верил в завершение работы, ждал его.
«Знаешь, — сказал он как-то, — что перестраивать — это “на входе” ясно, а что будет “на выходе” — это, кажется, и на самих “верхах” не очень-то представляют. А ломать — не строить». «А может, представляют?» — заметил кто-то.
«Сто лет будете гадать...»
«Дальше, дальше, дальше...» Но куда дальше? К полному отвержению Октября, всего советского. Место медлительных, крайне осторожных историков стремительно занимали бойкие журналисты, с легкостью мысли и пера которых историки соперничать не могли. Помимо осточертевшей всем «партийности», советские исторические труды отличались литературной тяжеловесностью и косноязычием. Их уже давно писали не для /279/ широких читательских кругов. Когда на одном из ученых советов нашего Института истории мастер использования метафор Ю. А. Поляков призвал остановить «бег по истории в кроссовках», кто-то из сидящих рядом со мной тихо сказал: «А в кирзовых сапогах по истории можно было?»
Ситуация напоминала то, что происходило после 1917 года, когда историю павшего режима стали преподносить как нечто почти сплошь черное, отрицательное. Теперь «демократическая» публицистика сосредоточилась на красном терроре эпохи гражданской войны и особенно на сталинских репрессиях 30-х годов. Все это выделялось, подчеркивалось и распространялось на всю послеоктябрьскую историю. Стирание «белых пятен» оборачивалось чуть ли не сплошным очернением. Шло безоглядное изменение исторических плюсов на минусы и наоборот. Но это в публицистике. А в исторической науке?
Резкую перемену взглядов демонстрировал Д. Волкогонов. Высокого ранга генерал, заместитель начальника Политуправления Советской армии, а позже начальник Института военной истории, он решительно принялся за дегероизацию вождей Октября и самого Октября. «Волкогоновщина» — так кто-то назвал «феномен Волкогонова». Академические круги открыто не выступали против Волкогонова, но на выборах в Академию аккуратно проваливали его. Искренности поворота Волкогонова не верили, считали его проявлением бесчестности, приспособлением к новой политической конъюнктуре. Думается все же, что причины были более сложными и глубокими.
Не менее, а еще более разительным примером сжигания того, чему раньше поклонялся, станет и сам Александр Яковлев. В «Омуте памяти», несмотря на все попытки, он все же не дает внятного объяснения произошедшего с ним.
«Здесь, — пишет он, — безграничный простор для личных раздумий, сомнений, покаяния. На склоне лет я все чаще, как политик, становлюсь противен самому себе. Наверное, устал... Ох, уж /280/ это русское самоедство!»
И все бы хорошо, если бы «отступники», отступив, «принимали свой крест». Но этого, как правило, и не происходило...
* * *
1989 год, пожалуй, стал пиком переосмысления истории. В конце января в Доме культуры МАИ состоялась учредительная конференция Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». В президиуме — А. Адамович, Ю. Афанасьев, М. Ульянов, Е. Евтушенко, Ю. Карякин, М. Шатров. Михаил Ульянов клеймил «чуму сталинизма» и говорил, что теперь-то у нас, наконец, есть шанс «выздороветь». Редактор «Огонька» Виталий Коротич взывал к бдительности. «Дракон еще жив! — восклицал он. — Живы те, кто убивал! Должен состояться второй Нюрнберг!» О перестройке как последней возможности возрождения говорили и Евгений Евтушенко, и редактор «Знамени» Григорий Бакланов.
Преобладали эмоции. Только, пожалуй, в выступлении А. Д. Сахарова они отступали на второй план.
«Ложь и лицемерие, — сказал он, — страшные удары по нравственности. Спасти ее может только правда. Да, наша история — трагическая, ужасная, но и героическая в то же время».
Позиция и слова наших либералов и демократов казались близкими и понятными. Но было в них и нечто такое, что заставляло слушать их с неким притупляющим чувством. Настораживала и размагничивала их непримиримость, даже агрессивность в утверждении и отстаивании своей «веры», стремлении «опрокинуть», изничтожить «иноверцев».
А новые собрания, заседания, говорения просто набегали друг на друга. «Московская трибуна», устный выпуск газеты «Московские новости», Колонный зал, Дом ученых...
Никогда исторические знания не были так востребованы, /281/ как в те годы. Мы выступали не только в Москве, но и в других городах. Нас все чаще приглашали за границу на конференции и семинары. Отпала болезненная тема «выездных» и «невыездных», которая глубоко раскалывала творческую интеллигенцию, превращая «счастливое меньшинство» («выездных») в просоветски настроенных, а «невыездных» — в скрытых антисоветчиков, если не диссидентов. Вообще поездки за границу в канун перестройки превращались для властей в серьезную политическую проблему, подрывавшую режим. Впрочем, он сам стремительно шел к своему концу. Справедливо писал еще Ю. Крижанич (ХVII век):
«Чужеземное красноречие, ловкость, избалованность, любезность, роскошная жизнь и роскошные товары, словно некие сводники, лишали нас ума».
Раньше я был «невыездным», а тут вскоре одна заграничная поездка пошла за другой — Венгрия, Англия (Оксфорд), Греция, Испания, другие страны. Запомнились две конференции, первая из которых состоялась в Афинах, а вторая — в Барселоне, обе — под эгидой звезды английского театра и кино Ванессы Редгрейв. Она активно занималась политикой, разделяла троцкистские взгляды. Думаю, что ее конференции были организованы через знакомого ей драматурга М. Шатрова.
В нашей команде выделялся Игорь Дедков, работавший тогда в «Свободной мысли», — прекрасный, талантливый человек, увы, рано ушедший. Психологические удары перестройки, думаю, оказались слишком тяжкими для его натуры.
Нас принимали по первому разряду. Редгрейв сама встречала нас в холле шикарной гостиницы. Когда Шатров представил меня, глаза звезды засветились радостью, она протянула руки, прижала меня к себе, изумленно восклицая: «О, Генрих! О, Генрих!». Посторонним, наверноe, показалось, что встретились после долгой разлуки старые друзья. На самом деле я видел ее впервые. Политика — политикой, но актриса оставалась актрисой. /282/
В Барселоне меня больше всего поразил морской простор и гигантская афиша кинофильма «Христофор Колумб» с изображением французского актера Жерара Депардье, снявшегося в главной роли. Ветер развевает волосы Колумба. Мощная фигура, устремленный в горизонт волевой взгляд. Сила, порыв, неустрашимость. Что там наши дела!
В начале апреля 1989 года нас опять собрали на Старой площади. Яковлева на сей раз не было. От его имени говорил В. П. Наумов:
«Александр Николаевич просит форсировать работу. Из обкомов идут письма об ускорении издания нашей книги».
Наумов интересовался, что необходимо, чтобы помочь делу. Может быть, следует все же всем выехать на
«дачу», чтобы там «сконцентрироваться»? Мы что-то мямлили в ответ. Энтузиазма не было.
Следующая встреча «команды», если не ошибаюсь, состоялась только в начале октября 1989 года. На сей раз присутствовал Яковлев.
Совершенно неясен был концептуальный стержень книги. И как ни вслушивались мы в слова Яковлева, оставалось непонятно: а ясен ли он ему самому? Он говорил о том, что общество уж больно быстро развивается, уж больно «рвануло» вперед, а нам надо избегать суетливости, конъюнктурности. В анализе дореволюционных событий — там легче, проще. А как дальше — с Октябрем, с гражданской войной? Еще сложнее — после 1924 года.
«Мы знаем, кто такой Сталин. А кем мы были? Чем была страна? Масса других труднейших вопросов. И не следует нам быть истиной в последней инстанции».
Трудно уходили мы от одной исторической лжи, а уже накатывалась другая. Существовал ли за ней какой-то дирижер? Демократическая пропаганда, во всяком случае, действовала расчетливо. Я уже писал, что из почти вековой истории большевизма вырывался сталинский период с его репрессиями и террором /283/ и накладывался на все предыдущее и последующее. Целенаправленный поиск всего отрицательного шел с нарастающей силой. Картина получалась одноцветная — мрачная и зловещая...
Наш коллега из ИМЛ В. В. Журавлев призывал не ждать и не тянуть с книгой, потому что «враг не дремлет». Его поддержал О. А. Ржешевский из Института всеобщей истории. Многие из выступавших требовали открытия для нас всех архивов, в том числе доступа к так называемым «особым папкам» Политбюро. В этих требованиях просвечивало и чисто прагматическое начало — опасение, что все скоро может измениться и надо использовать удачу, воспользоваться моментом для сбора редкого материала. В. Т. Логинов высказал мысль, что неправильно говорить о партии как о каком-то монолите, постоянном и неизменном. Идеология идеологией, теория теорией, а жизнь меняла коммунистов не меньше, чем они меняли ее. П. В. Волобуев соглашался с этим.
«Из гражданской войны, — сказал он, — вышла не та партия, которая была в 1917 году — начале 1918 года. Но ведь это не так трудно было предвидеть. И многие это предвидели и предупреждали».
Другая очень важная проблема состоит в том,
«почему не прошел реформаторский путь после гражданской войны, почему страну вновь бросили в пучину революции, на сей раз сталинской?»
Говоря о содержании книги, ее концепции, Яковлев сказал:
«Нам не надо ставить перед собой задачу способствовать стабилизации обстановки. Не следует “таранить” даже Нину Андрееву и “андреевщину”, иначе опять восторжествует идеологическое единомыслие. Мы следуем дорогой научности, а не политической борьбы и конъюнктуры».
Но все это были общие слова. Всем было ясно: время ставит один центральный вопрос, на который, если мы хотим остаться на почве научности и объективности, необходимо дать ответ: показала история правоту большевизма или нет? У Яковлева тогда ответа либо не было, либо он по каким-то причинам не /284/ хотел давать его. Это позднее в своем «Омуте памяти» он даст ответ в форме вопроса:
«Меня... интересуют две основные проблемы. Первая — почему Россия впала в безумие, именуемое большевизмом?»
Тогда таких слов не прозвучало...
После заседания все вместе спустились на первый этаж дачи, в столовую. Был дан обед. Шла непринужденная беседа. Кажется, Плимак стал говорить о падении авторитета Горбачева. Кто-то спросил:
«Александр Николаевич, а как вообще могло случиться, что такой человек, как Горбачев, прошел через партийное кадровое сито и дошел до вершины?»
Хитровато улыбнувшись, Яковлев ответил:
«Сто лет будете гадать, не отгадаете!»
Эта фраза удивила многих из нас и заставила призадуматься. Придя в 1985 г. к власти, М. Горбачев заявил, что решение имевшихся проблем он видит в возвращении к «позднему Ленину», Ленину эпохи НЭПа. Однако вопреки Ленину, категорически отрицавшему «середину» в политической борьбе и считавшему, что альтернативой советской власти может быть только правительство правых сил («вплоть до монархии»), Горбачев пошел «иным путем». На первое место в «перестройке» были выдвинуты политические лозунги — маловразумительное «новое мышление», «гласность» и совершенно невнятные «общечеловеческие ценности».
Из этих составляющих только «гласность» в принципе не противоречила партийной идеологии, но то, как она была введена и осуществлена, обернулось подрывом советского режима. В условиях напряженной борьбы двух общественных систем — капитализма и социализма — внутрь Советского Союза хлынул ничем не сдерживаемый антисоветский и антикоммунистический пропагандистский /285/ поток.
Что же касается «нового мышления» и «общечеловеческих ценностей», то это явилось ничем иным, как фактическим отказом от марксизма-ленинизма — идеологической основы советской системы. Причем с более чем наивной верой в то, что и противники СССР в холодной войне в ответ столь же добровольно откажутся от своей идеологии — идеологии антикоммунизма и антисоветизма. Конечно, этого не произошло, потому что никогда не могло произойти. Маниловское «новое мышление» Горбачева столкнулось с так называемой «реальной политикой», суровыми принципами которой являются прагматический интерес, расчет и выгода. В этих условиях самое лучшее, что мог бы сделать Горбачев, — это немедленно перестроиться самому, проявить осмотрительность, осторожность в определении темпа и методов осуществления перемен. Он не сделал этого, что тем более странно на фоне многих предупреждений, в том числе и со стороны лидеров зарубежных левых, социал-демократических сил. Эти предупреждения сводились к тому, что горбачевская перестройка может нанести удар не только по советской системе, но и по всему мировому левому движению. В итоге — выиграют правые, консервативные силы. Но, как любил выражаться Горбачев, «процесс пошел». На политическую арену выступили крайне правые силы (Ельцин), поощряемые и прямо поддержанные из-за рубежа. В Москве одно время шутили, что страной управляет «вашингтонский обком». Так или иначе КПСС канула в небытие. Советская система перестала существовать. Вместе с этим распался Советский Союз — преемник многовекового российского государства, что означало небывалую в его истории катастрофу.
Неизбежно возникает вопрос о «движущих силах» действий Горбачева. Существуют разные версии. Одна из них /286/ сводится к личностным, психологическим факторам Горбачева, по отзывам хорошо знающих его — человека нарциссического характера. Согласно этой версии, он был движим стремлением запечатлеть свое имя на скрижалях истории, наряду с современными «сильными мира сего». Немалая роль тут отводится супруге, Раисе Максимовне, якобы видевшей себя в качестве «первой леди». При всей, возможно, верности оценок Горбачева, эта версия вызывает сомнение. Горбачев был прежде всего политик до мозга костей (как сказал один из американских сенаторов, «он — один из нас, он — политическое животное»). По определению же человека, хорошо знавшего Горбачева, он — «наркоман от политики», а это значит, что политический расчет должен был занимать у Горбачева первое место.
Другая версия состоит в том, что Горбачев в какой-то момент оказался в сфере воздействия западных лидеров и превратился в своего рода «агента влияния» Запада. Эту версию очень многие считают полной чушью. И в самом деле, какими мотивами мог руководствоваться Горбачев, чтобы косвенно, или тем более прямо, «работать» на Запад? Указать на такие мотивы попросту невозможно.
В чем же, в таком случае, может быть основа, почва политики Горбачева? Если уж невозможно понять, как Горбачев сумел пройти сквозь кадровое партийное решето, то почему это ему удалось — предмет для раздумий. И тут я вспомнил своего старого знакомца — Д. И. Мейснера. Он был участником гражданской войны, воевал в Добровольческой армии А. Деникина, эвакуировался с армией П. Врангеля в Турцию (кутеповский лагерь на о. Галлиполи), жил в Чехословакии и Франции. В 20-х годах был близок к лидеру кадетской партии П. Милюкову. В 60-х годах вернулся в Россию, написал и издал мемуары «Миражи и действительность». Я познакомился /287/ с ним после выхода моей книжки о монархистах в гражданской войне и частенько бывал у него дома на Коломенской. Говорили о революции, большевиках, советской власти. Как-то зашел разговор о судьбе большевизма в России, и он рассказал о том, что об этом думал Милюков.
— Он отвергал мысль, что большевистский режим можно ликвидировать вооруженным путем извне. Перестал верить и в успех крестьянских и иных восстаний в самой стране. «Большевизм, — считал он, — подвергнется постепенному разложению. Его погубит червь мещанства, который заведется внутри него».
Я тогда не очень понял и попросил объяснить.
— Давайте для ясности предельно упростим эту милюковскую теорию, — сказал Мейснер. — Гражданская война закончена. Мир. Другая действительность, другая жизнь. Вчерашний лихой красный кавалерист снимает буденовку, гимнастерку с «разводами», галифе. Как победитель он становится «начальником». Теперь на нем штатский костюм «аглицкого покроя». Ему отводится кабинет. Продвигают по службе. Кабинет обставляется хорошей мебелью, коврами и т. п. Дальше — больше. Дают большую квартиру, дачу, другие блага. И вот однажды в кабинете у него в голове возникает вопрос: «А если вдруг меня снимут, хуже того — посадят, что тогда? Что останется семье, детям? Ведь все, чем я располагаю, — не мое, казенное...». И рождается «подленькая» мыслишка о собственности, наследстве и всем таком прочем. Тут и есть начало конца большевизма.
Я стал читать литературу белых эмигрантов. Они верили в свое возвращение и много думали о судьбе большевизма. Мысль о выхолащивании большевистской идейности и заполнении образующейся пустоты обыденной мещанско-потребительской философией в их среде крепла. Приходили даже к выводу, согласно которому этот процесс может привести к /288/ тому, что «крушение большевизма начнется “из кабинета какого-нибудь партсекретаря”». Тот, кто это написал, как в воду глядел. Горби и Ельцин, возможно, и были плодами перерождения партии, которое и привело их на самый ее верх.
Могло ли все пойти иначе? Кто знает. Как писал А. Герцен, у истории много дверей, много выходов...
* * *
А Москва бурлила, в центре города — демонстрации, толпы яростно спорящих людей. Несут лозунг «Позор Октябрю!». Активизировалась «Память». На Пушкинской площади прыщавый парень что-то кричит о жидомасонах, о ритуальном убийстве царя. Женщина не дает ему говорить, кроет матом: «Сейчас тебе, б... такая, рожу всю разобью! Чего тебе евреи сделали?!». Рослый мужчина загадочно говорит:
«Все вы не туда глядите! Глубже глядеть надо!».
Начались открытые обвинения номенклатурных лиц во взяточничестве. В этом обвиняли даже самого Горбачева! Кажется, это было началом кампании по выявлению компромата, впоследствии просто захлестнувшей страну. На наших публичных выступлениях все чаще задавались вопросы: а каковы были темы ваших диссертаций? а что вы писали раньше? а как вы относитесь к этому теперь? На одной из встреч, где присутствовали В. Солоухин, Г. Рябов, приехавший из США Ю. Фельштинский и другие, почти всех спрашивали об этом. Рябов, который раньше воспевал героическую советскую милицию, а теперь стал монархистом, ответил пушкинскими словами: «Послушный Божьему закону, переменился я...»
* * *
Шатров рассказал, что Яковлев говорил с «самим», и «сам» якобы сказал, что «корабль плывет», что мы (т. е. сторонники перестройки) им (т. е. противникам перестройки) «еще /289/ навтыкаем». Но никому Горбачев уже «навтыкать» не мог. Вожжи выпадали из его рук. В сентябре Москву поразил «табачный кризис», в киоски за сигаретами стояли длинные очереди. Потом разразился «хлебный кризис»: запертые булочные, тоже длинные очереди, давка у прилавков... Казалось, вот-вот начнутся «табачные бунты», «хлебные бунты». Прошел слух, что грозит эпидемия дифтерита. Паники добавил обмен пятидесятирублевых и сторублевых купюр.
Январь начался многолюдными демонстрациями. 20-го числа чуть ли не вся Москва поднялась, как, бывало, 1 мая или 7 ноября. По Садовому кольцу движения нет. Погода мрачноватая, пасмурная, слякотная. Здание посольства США забаррикадировано тяжеловесными бетонными брусами. Подхода нет. Два каких-то парня все-таки уцепились за решетку, держат плакат:
«Буш — цепной пес». Следуем мимо. Над нами плакаты и лозунги решительно антигорбачевские и проельцинские. На Манежной площади море людей. К гостинице «Москва» не подойти, там сплошная толпа. Объявлена минута молчания в память о погибших в Вильнюсе и Баку. То ли с машин, то ли с импровизированной трибуны один за другим выступают ораторы. Афанасьев, Станкевич, Якунин, Гдлян, Черниченко, еще кто-то. Клеймят Горбачева, прославляют Ельцина. Обратно двинулись по улице Герцена, перерытой строительными работами.
В эту зиму и весну Москва стала проваливаться в «мерзость запустения». Темно, улицы завалены снегом, скользко на тротуарах. Пусто в магазинах, продавщицы в несвежих халатах стоят за прилавками, сложив руки на груди крест-накрест. Подскочили цены. Они казались ужасными: колбаса — 13 рублей, крупа — 7 рублей, хлеб — почти рубль. Никто еще не предполагал, что все это только начало. А вместе со всем этим появились признаки какой-то нервной суеты: снование «иномарок», из которых что-то вытаскивали, а потом, наоборот, затаскивали моложавые, крепкие ребята — будущие «новые русские». /290/
В марте позвонила некая дама, отрекомендовалась то ли переводчицей, то ли секретаршей корреспондента «Вашингтон пост» Дэвида Ремника (теперь он главный редактор журнала «Нью-Йоркер»). Договорились встретиться у меня дома. Явился молодой высокий парень. Расспрашивал о советской историографии, о перестройке и Горбачеве. Позже он рассказал о той встрече в своей книге «Lenin’s Tomb».
Спустя некоторое время (кажется, это было в апреле) в новом роскошном «Президент-отеле» на Якиманке состоялся международный симпозиум о Ленине и ленинизме. Вся наша группа получила приглашения. Проходили в отель по особому списку, охрана была серьезная. В большом, ярко освещенном зале, за круглым столом расселись участники симпозиума. Выделялся американский историк Р. Пайпс, который при Рейгане состоял его спецсоветником по русским делам. Раньше его числили по разряду самых злостных «фальсификаторов истории». Теперь постаревший, но не изменивший своих взглядов Пайпс, казалось, чувствовал себя победителем. Говорил назидательно. Пытался возражать ему наш Лельчук, но выглядело это неубедительно. И не потому, что Лельчук не был так эрудирован, как Пайпс. Ветер перестройки дул в спину Пайпсу. «Пайпсизм» становился чуть ли не образцом исторической правды в интерпретации российских событий конца ХIX — начала ХХ века. Вчерашние «фальсификаторы» на глазах превращались в носителей исторической истины.
В перерыве между заседаниями в фойе мелькнул Дэвид Ремник. Помахали друг другу, и он деловито куда-то исчез. В его деловитости тоже чувствовалась победность. В перестройку американцы стали нашими любимцами. Еще бы! Это они помогали нам освободиться от «империи зла» и создавать «империю добра», такую же, как у них, где все только улыбаются друг другу. Но однажды произошел случай, который /291/ запомнился. В Научном совете сидел и беседовал с нами американский историк N. Открылась дверь, и в комнату заглянул другой американский же историк Х. Увидев N, он тут же захлопнул дверь. Я вышел в другую комнату и, удивленный, спросил, в чем дело.
«С этой сволочью я не желаю встречаться!» — ответил X.
Конечно, на том симпозиуме в «Президент-отеле», весной 1991 года, дискуссию с Р. Пайпсом должен был вести не Лельчук или кто-либо еще из нашей группы. В соответствующей «весовой категории» противостоять ему мог, пожалуй, наш шеф Яковлев. Мы ждали его. Он не пришел. Это был знак: на проекте новой истории большевизма поставлена точка.
Страна все быстрее втягивалась в рыночную экономику и демократию. Ее убеждали, что там тепло и сытно. Над ней все выше поднимался флаг с золотым тельцом на полотнище и все ниже опускалось знамя с серпом и молотом.
А как же идеология, теория марксизма-ленинизма? М-да... Перед самой перестройкой я был членом группы Черемушкинского райкома по проверке комсомольской учебы на предприятиях района (имелась группа и по проверке партийной учебы). Мы воочию видели, что никакой такой «учебы» практически не существовало, что она давно уже превратилась в никому не нужную пустую «нагрузку». Ответственные из партийных бюро просили нас: «Ну, уж вы там “нарисуйте” что-нибудь для райкома, не подведите».
Мало кто читал и тем более изучал труды классиков марксизма-ленинизма. В лучшем случае их заменяли партийные журналы, такие, как «Пропагандист и агитатор» и т. п. газетные пустоты. Рассказывали, что сам Л. Брежнев говорил своим консультантам:
«Вы в мои речи хоть цитат-то из Маркса или Энгельса не вставляйте. Ведь никто не поверит, что Ленька Брежнев “Капитал” или что-либо другое действительно читал».
Думается, что и главные «прорабы» перестройки тоже не читали. /292/

 Афанасьев стал ректором Историко-архивного института. В январе 1987 года в Институте
Выступает Юрий Афанасьев. 1987 г. истории СССР из рук в руки передавались «Московские новости» с его статьей. Существующая методология объявлялась там схемой, ведущей к упрощению, «смазыванию» живого исторического процесса и навешиванию «погромных» ярлыков. Тогда это была сенсация. В редакции «Московских новостей» говорили, что в связи с афанасьевской статьей над ними «сгущаются тучи», слышатся «глухие удары»... Но «тучи» рассеивались, а «удары» уже повисали в воздухе. Да и сам Юрий Афанасьев в своих статьях вовсе не отказывался полностью от марксистско-ленинской идеологии.
Афанасьев стал ректором Историко-архивного института. В январе 1987 года в Институте
Выступает Юрий Афанасьев. 1987 г. истории СССР из рук в руки передавались «Московские новости» с его статьей. Существующая методология объявлялась там схемой, ведущей к упрощению, «смазыванию» живого исторического процесса и навешиванию «погромных» ярлыков. Тогда это была сенсация. В редакции «Московских новостей» говорили, что в связи с афанасьевской статьей над ними «сгущаются тучи», слышатся «глухие удары»... Но «тучи» рассеивались, а «удары» уже повисали в воздухе. Да и сам Юрий Афанасьев в своих статьях вовсе не отказывался полностью от марксистско-ленинской идеологии.


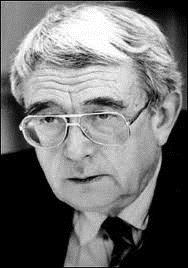 Странным образом мои пути пересеклись с Яковлевым дважды. Я узнал об этом лишь спустя полвека из уже упомянутых его воспоминаний. Оказывается, в 1941—1942 годах Яковлев был курсантом пехотного училища,
А. Н. Яковлев. Середина 80-х гг. эвакуированного из Ленинграда в удмуртский город Глазов, а я был тогда там в эвакуации и какое-то время даже работал в оружейной мастерской училища. Зимой мы, пацаны, лихо спускались на лыжах с высокого берега реки Чепцы, наблюдая снизу, как неуклюже съезжают с горы курсанты в шинелях и кирзовых сапогах. Наверняка среди этих курсантов я видел и Яковлева — будущего «архитектора перестройки».
Странным образом мои пути пересеклись с Яковлевым дважды. Я узнал об этом лишь спустя полвека из уже упомянутых его воспоминаний. Оказывается, в 1941—1942 годах Яковлев был курсантом пехотного училища,
А. Н. Яковлев. Середина 80-х гг. эвакуированного из Ленинграда в удмуртский город Глазов, а я был тогда там в эвакуации и какое-то время даже работал в оружейной мастерской училища. Зимой мы, пацаны, лихо спускались на лыжах с высокого берега реки Чепцы, наблюдая снизу, как неуклюже съезжают с горы курсанты в шинелях и кирзовых сапогах. Наверняка среди этих курсантов я видел и Яковлева — будущего «архитектора перестройки».