Возвращение и «Дело врачей»
...И настал день /197/, о котором я думал и мечтал, уезжая впервые в Кологрив: день, когда было сказано — можешь вернуться домой. Пришла бумага из ОБЛОНО, извещавшая, что с нового учебного года набора в педучилища и учительские институты не будет, т.к. в перспективе они подлежат закрытию: подготовка учителей всех классов школы отныне будет вестись в педагогических вузах.
Практически это означало, что учебная нагрузка уже в предстоящем учебном году сократится и далее это сокращение пойдет по нарастающей. Я был приезжий, а уж если кого можно было сократить с наименьшим ущербом, то, конечно, меня.
— Ну, — сказал Кудрявцев, — что будем делать? Хотите остаться — оставайтесь. «Часы» найдем. А дальше будет видно. Не хотите – отпустим.
Вот натура человеческая! Пытается всеми силами вырваться из запрета, а как запрет снимается и говорят человеку: иди, шагай, бери это «запретное», — он начинает колебаться.
Лежа в своем «жоховском пенале», я размышлял. По газетным сообщениям, а больше по письмам из Москвы от Виталия Свинцова, я знал: идеологический винт там завинчивается по самую шляпку, и скрип от этого все сильнее. Было ясно: Москва меня не ждет и, скорее всего, встретит хмуро, а то и сурово. А Кологрив уже почти стал своим, я привык к нему, к училищу, его людям: Бочину, Репину, Кудрявцеву, другим. Смешно, но мне казалось, что они могут обидеться на меня, если я уеду. При мысли об этом начинало даже шевелиться чувство вины... Но в Москве — родители, друзья, закадычный мой товарищ Виталий. Он уже заканчивал философскую аспирантуру, женился и даже стал молодым отцом. В Москве будет тяжко? Наверное, так. Но мне — всего двадцать четыре года, и я вспоминал А. Твардовского: /198/
Не зарвемся, так прорвемся, Будем живы – не помрем!
***
В Москву я приехал поздней осенью 1952 года. Работу не искал: отгуливал положенный мне отпуск, а когда приступил к поискам, понял, что наткнулся на стену. Да не я один. В школах повсюду был перебор учителей-историков. Можно было только, если повезет, устроиться куда-нибудь на замену больных или учительниц, находившихся в декретных отпусках. Но и эти места были «под прицелом»: уходившие, как правило, передавали их знакомым или родственникам, которым верили, что они по возвращении «штатных» освободят данное им на время и уйдут.
Время было нелегким, полным каких-то нехороших ожиданий. В эти дни я находил поддержку у инстутского преподавателя методики истории (он заведовал кафедрой) и руководителя нашей студенческой педагогической практики в школе на Усачевке Петра Васильевича Горы. С женой Валей они жили на Красносельской, и я в часы уныния наведывался к ним. Они всегда встречали меня по-доброму. А однажды Гора сказал :
— У меня есть друзья, по работе связанные с самим вице-президентом Академии педагогических наук, профессором Корниловым. Он знаменитый психолог, авторитетнейшая личность и, говорят, добрейший человек. Можно сделать так, чтобы он принял тебя. Расскажешь о себе, попросишь помочь с работой.
Шел я к Корнилову на Якиманку с трепетом: никогда в жизни не был у людей такого высокого положения. Немного обождал в приемной, и вот передо мной крепкий старик с седыми буденновскими усами. Говорил он со мной недолго. Взял лежавший на столе плотный лист бумаги, что-то долго /199/писал и вручил его мне. Выйдя в тенистый академический двор, я сел на скамейку, развернул бумагу и прочитал:
Рекомендация:
Настоящим удостоверяю, что податель сего Генрих Зиновьевич Иоффе лично известен мне как бывший студент Московского педагогического института им. Ленина, работавший в этом институте в течение четырех лет как студент, закончивший курс обучения с отличием.
Как профессор этого института могу сказать, что Г.З. Иоффе является хорошо образованным, очень старательным в работе и безукоризненно-честным молодым человеком, комсомольцем. Могу со всей ответственностью рекомендовать его на педагогическую работу в школе.
Действительный член Академии педагогических наук, депутат Моссовета, профессор К.Н. Корнилов
Корнилов, конечно, знал, что писал. Честность рассматривалась как одно из высших достоинств человека. Храню этот автограф по сей день...
В этих хождениях я неожиданно встретился со своим однокашником Феликсом Летушевым, который по окончании института был распределен в Калугу и теперь тоже вернулся. Стали ходить вместе. В школах было глухо. Решили махнуть на них рукой, пошли по редакциям газет, издательствам. В газетных редакциях Феликсу, казалось, должно было светить больше. В институте он был довольно известным спортсменом, бегал дистанцию 400 метров, как тогда говорили, по первому разряду, т.е. приближался к нормативу мастера спорта. Он рассчитывал, что в какой-либо газете его могут взять спортивным корреспондентом. Не получалось. Что-то вдруг мелькнуло в Детгизе. Там в кадрах длинный, худющий человек весело принял нас, называл «ребятеж» и заверил, что такой «ребятеж» в издательстве /200/нужен, например, в корректорской, велел зайти через неделю. Потом еще через неделю, через две, через «месячишко», и на том все кончилось. А мы уже ходили радостные...
Тогда в Москве в людных местах — на трамвайных и троллейбусных остановках, в парках, скверах и др. — стояли или висели на заборах специальные стенды, на которых (под стеклом) вывешивались центральные газеты. Ближайший к нашему дому такой стенд висел на трамвайной остановке на углу Трифоновской улицы и Орловского переулка. Утром 13 января 53-го года, направляясь на очередные поиски работы, я остановился у этого стенда. Около него толпились люди, и я не сразу протолкнулся к газете. В ней было напечатано сообщение ТАСС об аресте группы врачей, находившихся в заговоре с целью убийства руководителей партии и правительства.
Толпа читала это сообщение молча, мне не запомнилось никаких замечаний или восклицаний. Подходили трамваи, и люди торопились сесть в вагоны. Было холодновато, падал небольшой снежок. В перечне «врачей – убийц в белых халатах» значились и русские фамилии, но преобладали все же еврейские. Подошел очередной трамвай, но я в него не сел: решил возвратиться домой. Что означало это сообщение, в том числе для таких, как я, понять было нетрудно.
Впоследствии, после смерти Сталина, а еще больше в горбачевско-ельцинские годы, о «Деле врачей» писали очень много. Немало авторов утверждало, что это «Дело» являлось лишь началом, прологом масштабной антисемитской кампании, финалом которой должно было стать поголовное выселение евреев в Сибирь и другие отдаленные места и даже чуть ли не второй Холокост.
Если бы это было так, то происходившее зимой 1953 года, чему я оказался свидетелем, не могло быть не отмечено, назовем это так: предварительной подготовкой. Ее не было. В нашем окраинном районе Мещанских улиц еврейские семьи /201/ жили по-прежнему, хотя, конечно, бытовой антисемитизм усилился, это факт. Он, однако, не перерастал в нечто подобное погромам, избиениям и т.п.
Да и как можно было практически выселить евреев, живших не концентрированно, а рассеянно. Гетто в советских городах не существовали.
ШРМ
Муж моей двоюродной тетки Андрей Захарович Дмитриев как-то сказал мне:
— Напрасно ты ходишь со своим Феликсом по отделам кадров. Одного бы, может, и взяли, да перед другим вроде бы неловко. Мешаете вы друг другу, а больше, если сказать честно, мешаешь ты ему. Понимаешь, почему?
Андрей Захарович знал, что говорил. Он вместе с моей теткой — Верой Григорьевной — работал в Мосгорфинотделе и чиновничью психологию знал до мозга костей.
В очередную встречу с Феликсом я рассказал ему об этом разговоре, прямо добавив, что меня теперь «по пятому пункту» не возьмут, и этот пункт, когда мы вместе, отбрасывает тень и на него. Разговор шел на ходу, и Феликс, выслушав мой монолог, даже остановился.
— Ты что, совсем, что ли? — он покрутил пальцем у виска. — Как ходили на пару, так и будем ходить. Слушай больше всяких Андрей Захарычей.
Но оба мы — и я, и он — понимали: Андрей Захарович прав, ничего тут не поделаешь. Последний раз вместе мы забрели в театр им. Моссовета на площади Маяковского, в котором требовались рабочие сцены. Нас не взяли: кадровик сказал, что не имеет права оформлять на такую работу лиц с высшим образованием. «Поисковые» действия наши на этом /202/ разошлись, но не дружба. Феликс Летушев все-таки стал спортивным журналистом, и мы часто встречались с ним.
Вскоре я испытал тяжелый удар: умерла Лина Македонская — наша добрая хозяйка во флигельке Спасо-Песковского переулка, переживавшая когда-то всю эту бездарную космополитическую «зачистку» в пединституте. Разыскал ее мужа — Даниила Вексельмана. Он был инженером-турбостроителем, работал на Кузнецком мосту. После смерти Лины стал попивать. И тут я, как безработный, оказался ему подходящим партнером. Вечерами мы заходили в пиво-водочные ларьки, которых тогда в Москве было полным-полно, и «принимали» не такую уж и малую дозу. Вексельман был довольно задиристым парнем, что при его типично семитской внешности являлось в те дни небезопасным. И, бывало доходило до крутых драк «с кровянкой». Однажды утром, увидев меня «разукрашенным», пришедший в негодование отец закричал:
— Ну, кончено! Пойдешь на любую работу!
Я вспомнил, что инспектор Мосгороно когда-то направлял меня в Мособлоно. Побрел на Садово-Каретную. Там мне сразу предложили место в любой из сельских школ Зарайского района. Но дома я сказал:
— Нет, зачем мне этот Зарайск? У меня в запасе Кологрив. Вернусь туда...
И дал телеграмму в училище. На другой же день пришел ответ: «Полную недельную нагрузку гарантируем. Приезжай. Кудрявцев». Я стал собираться.
В этот самый момент казалось бы уже непробиваемая стена дала трещину! Тетка моя, Вера Григорьевна, по телефону попросила срочно приехать к ней, в Мосгорфинотдел, на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. Она вышла мне навстречу в одном из темных коридоров.
— Знаешь, где Гагаринская улица, у метро «Кропоткинская»? — сказала она. — Вот поезжай сейчас же туда. Там на /203/ Гагаринской есть школа рабочей молодежи. Найдешь директора, запомни — Софья Марковна Гольман. Если в кабинете у нее никого не будет, скажешь, что от меня. Если будет кто-то еще, не говори. Я потом сама ей скажу. Там требуется историк. Поезжай, потом сразу поговорим.
Я знал, что Вера Григорьевна работала в отделе финансирования здравоохранения и школ. Отсюда, видимо, и протянулась ее ниточка к школе рабочей молодежи и к ее директору. Школ рабочей молодежи было тогда много в Москве. Работали они вечерами. Звали их сокращенно — ШРМ. Не без волнения направился я к неведомой мне пока Софье Марковне Гольман, которая со своей школой сыграет огромную роль во всей моей жизни. Оказалась она подчеркнуто строгой женщиной типично учительского вида, с густыми черными с проседью волосами, забранными на затылке в большой пучок.
В комнате Софья Марковна находилась одна, и я сразу же сказал, от кого я. Она как будто бы чуть-чуть смягчилась, но от строгого делового тона не отступила. Расспросив меня обо всем, сказала:
— Вас, наверное, не устроит то, что мы можем вам предложить. Десять часов в неделю — это меньше, чем полставки.
— Устроит, устроит, — поспешил заверить ее я. — Вполне устроит. А там, в будущем...
— Ну, если устроит, давайте документы...
И я не поехал в Кологрив. Что подумали обо мне Бочин, Кудрявцев, Репин и другие — не знаю. Но я и по прошествии более чем полувека думаю о них с любовью. И вот вижу бочинскую «избушку», врытую в высокий песчаный берег, на верху которого шумели и, конечно, шумят старые сосны кологривского/204/ кладбища. А на другом, пологом берегу, куда только хватает глаз, – все луга и луга. Здесь, у реки Унжи, — излучина, поворот, а дальше она выходит на прямую и течет плавно, но быстро. В начале лета Унжа еще довольно глубока, но сквозь ее чистую, как хрусталь, глубину виден золотистый песок дна. Россия...
Я проработал в этой школе несколько лет, у нас там было много молодых преподавателей, и мы между собой называли Софью Марковну «комсомолкой двадцатых годов». Она и являлась таковой со всем тем, что было присуще многим комсомольцам тех лет: это преданность общественному долгу, который ставился выше личного, бескорыстность, предельная честность.
Десять уроков в неделю — это мизер, гроши. Тем более, что судьба моя в ШРМ Софьи Марковны Гольман круто изменилась. В школе было несколько преподавательниц комсомольского возраста. Райком распорядился составить из них группу. Секретарем выбрали меня. Что следовало делать, я не знал. Однажды предложил всем пойти на каток в парк ЦЛКА Согласились, но выяснилось,что кататься никто из моих девиц совершенно не умеет. На льду медленно, со значением раскатывался известный артист В. Зельдин, за которым увивалась стайка каких-то девчонок. Смотрю, и шаэремовские комсомолочки во все глаза глядят на артиста, мало внимания обращая на мои конькобежные уроки.
Дальнейшая работа свелась к сбору незначительных членских взносов и сдаче их во Фрунзенский райком комсомола. С каждым годом по крайней мере «низовая» комсомольская деятельность все больше и больше выхолащивалась.
Между тем, одна из моих «комсомолочек» внушала мне отнюдь не только чувство комсомольского товарищества. Это была преподавательница французского языка Роза Пружанская. Школа работала по вечерам, и уроки заканчивались поздно. Я ждал ее в темном школьном дворе, но она всегда выходила не /205/
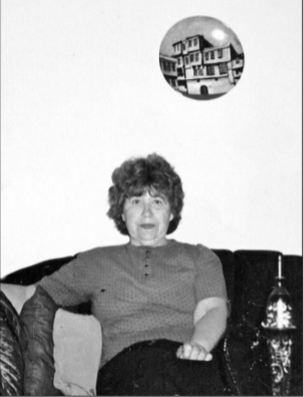 одна, а с кем-нибудь из учителей. В пальто с белой меховой опушкой на воротнике и в такой же шапочке типа «Снегурочка».
одна, а с кем-нибудь из учителей. В пальто с белой меховой опушкой на воротнике и в такой же шапочке типа «Снегурочка».
Постепенно сопровождавшие ее, видимо, заметили мое «крейсирование» у выхода из школы и предупредительно расходились. Тогда я обретал возможность сопровождать «француженку» до метро «Кропоткинская». Прошло какое-то время, и я уже не выходил на своей станции «Комсомольская». Вместе мы ехали до ее станции «Таганская», и я поворачивал обратно.
Она не была москвичкой. Родители жили в городке Климовске, рядом с Подольском. На жительство к себе ее приняла землячка, хорошо знакомая климовчанка тетя Паня. Она жила в доме на Воронцовской улице, недалеко от часового завода. Воронцовскую я осваивал долго. Мы медленно, словно прогуливаясь, шли по ней, разговаривая о разном, но больше всего, конечно, о военных годах. Ее отец был военврач и всю войну провел во фронтовых госпиталях. Мать – тоже врача – мобилизовали в первые дни войны, и она с двумя дочерьми и своей старой матерью была отправлена в сибирский госпиталь, на Оби. И однажды Роза рассказала мне необычайно волнующую историю. /206/
Роза и комиссар
Хуже названия села, возле которого обустроился наш подмосковный эвакогоспиталь, придумать, пожалуй, трудно: Мочище. Зато красивей этого места тоже, наверное, нелегко найти. Крутой берег стремительной, широкой Оби, острова на ней, летом утопающие в зелени, птицы поют на разные голоса... Все в ярких цветах, по-местному жарках, саранках, кругом — леса...
Что за население жило в поселке — я точно не знаю. Может, ссыльные издалека, а может, как тогда говорили, раскулаченные местные. Бедность, нищета — жуткие. Жили в домах, которые правильнее назвать землянками. Окошки на уровне земли, покосившиеся крыши, покрытые кусками ржавого железа, сгнивающими досками.
Питались картошкой с собственных огородов. Она спасала: родилось ее в сибирской земле много, крупной, вкусной.
Дорога в школу из госпиталя в поселок — километра четыре. Осенью, и особенно в снежные или морозные зимние дни, — нелегко даже нам, мальчишкам и девчонкам. Было всего три класса — 5-й, 6-й и 7-й. В 5-м учились и переростки лет четырнадцати-пятнадцати. С первых учебных дней я оказалась в аду. Началось после того, как классная руководительница зачитала список фамилий и имен наших семиклассников и назвала мои: Роза Пружанская. В классе, не таясь, захихикали, а некоторые и загоготали. Соседкой моей по парте была Верка Жеребцова (фамилию «Жеребцов» или «Жеребцова» носило, наверное, полсела) — курносая девчонка с двумя мышиными косичками на плечах. На другой день, перед началом урока, она громко обратилась ко мне, имитируя еврейский акцент:
— Сарочка, мама дала тебе с собой курочку? Ты будешь сейчас ее кушать или потом? /207/
Дружный смех встретил ее слова. Смех и мат, бывший в классе обычным. Матерились все: и мальчишки, и девчонки.
Так продолжалось почти каждый день. Меня назвали Сарочкой, спрашивали с раскатистым «р» про курочку, говорили про жидов, воюющих на «ташкентском фронте», но набор обидных и оскорбительных замечаний в общем был невелик.
Дома я плакала и однажды, не выдержав, рассказала все маме. Наутро, взяв меня с собой, она пошла к комиссару госпиталя, подполковнику Николаю Ивановичу Голосову. Лет пятидесяти, он был невысокого роста, сухощавый, с хмурым лицом. Носил уже поношенную форму, перепоясанную ремнем с портупеей. Армейская фуражка на нем тоже была старой, с примятыми боками, как у Фурманова в фильме «Чапаев». Ходил он, слегка прихрамывая, опираясь на палку.
— Это ничего, — сказал комиссар, выслушав маму. — Это мы разберемся.
Он курил самокрутку, глубоко затягиваясь и держа ее большим и указательным пальцем внутри полусогнутой ладони.
— Это мы разберемся, — повторил он.
Комиссар пришел в класс один перед звонком на урок. Снял фуражку, поставил палку у первой парты, сел за столик, положив на него руки, сжатые в кулаки. Лицо его было более хмурым, чем обычно.
— Я человек военный, — сказал он, — говорю все прямо и сразу. Без предисловий. Доложили мне, что вы тут жидоедством занимаетесь. Вон девчушку Розу Пружанскую, считай, затравили. Не любите евреев – да или нет?
Класс затих. Я видела, как в открытую форточку влетела пчела, поползла по оконному стеклу и, пытаясь улететь, ударялась о него. Я пристально следила за несчастной пчелой, ничего больше не видя и ни о чем не думая...
— Дак кто мне ответит? — спросил комиссар. — Боитесь, что ли? /208/
Где-то позади хлопнула откидная крышка парты. Васька Жеребцов, переросток, кажется, второгодник, выпрастывал длинные ноги из-под сиденья. Встал вяло, как-то безразлично.
— А чего бояться? Жидов любить не за что. Они тут мужиков шестерили... Отец мне говорил.
— Отец? — резко перебил комиссар. — А где отец?
— Как где... Где все. На фронте, воюет.
— Письма мать давно получала?
— Не. Пришло посля пасхи. Из госпиталя. Ранен был... Комиссар поднялся, отодвигая стул.
— А у этой девчонки, — заговорил он, кивнув в мою сторону, – отец с первого дня войны на фронте — и ни единой строчки. Мертвый, живой? А если был живой, может, это он, военврач второго ранга, твоего батьку от смерти отвел? А может, руку или ногу ему спас? Вернулся бы твой папаня калекой, что тогда? Теперь возьмите мать этой девочки. Тоже военврач, в любую погоду, в стужу, метель, осенью в грязь по колено торопится к ранбольным. Молодая еще женщина, красивая, а все время — в ватнике, в валенках либо в резиновых сапогах. Воинский долг свой выполняет безупречно, несмотря ни на что...
Тишина не проходила. Набычившийся Васька по-прежнему стоял у парты. Я неотвязно следила за пчелой. Она, наконец, доползла до форточки и улетела.
— Чего стоишь? — сказал Ваське комиссар. — Садись. И вот я хочу вам сказать: придут отцы с передовой, посмотрят, как вы тут живете холодно и голодно, скажут — нет, так больше жить нельзя. Надо строить новую жизнь. А кому строить? Вам, больше некому...
Он закашлялся сухим кашлем старого курильщика и, уже надевая фуражку, произнес хрипло:
— И вот я, старый офицер, бывший фронтовик, приказываю вам и прошу... /209/
Что-то, видно, помешало ему продолжать. Он взял палку и, опираясь на нее, ушел из класса.
Ваньки Леонтьева не было в школе, когда приходил комиссар. Явившись на другой день и увидев меня, он весело крикнул:
— Сарочка! Твой папа, говорят, вернулся с ташкентского фронта. Много урюка привез? Угостила бы!
Никто не подхватил его веселого крика. Все, словно ничего не услышав, занимались своими делами. Поднялся с последней парты и пошел к Ваньке Ленька Нестеров, небольшого роста, коренастый паренек, всегда почему-то носивший красноармейскую каску. Это было странно, но никто, даже учителя, не делали ему замечаний. Так, в каске, он сидел и на уроках. Теперь, косолапо ступая, он подошел к Ваньке, поправил на голове свою каску и, не размахиваясь, ударил его в лицо. Удар пришелся в переносицу, Ванька упал, размазывая по лицу кровь. Нестеров повернулся и, не оглядыаясь, так же косолапо направился на свое место.
Прошло время. Война двигалась к победе. Мы возвращались в Москву. Я пошла к комиссару прощаться.
— Ну, прощай, дочка, — сказал он, положив мне руку на голову. — Знаю, что было трудно, да что поделаешь. А на ребят ты не серчай, они не злые. Сама видишь: плохо живут, хуже некуда. Вот после войны жизнь переменится, тогда, может, и разговоры и дела пойдут другие. Не знаю... Много еще придется хлебнуть. Ну, счастливо тебе.
Дома в почтовом ящике я нашла открытку с красотами Байкала. Я перевернула ее на другую сторону. На ней было написано: «На долгую память Розе Пружанской. Жеребцов Николай, Нестеров Леонид. Село Мочищи Новосибирской области, 1944 год». И ниже приписка: «Положь подале».
Я выполняю пожелание Жеребцова Николая и Нестерова Леонида. Храню их открытку. /210/
Перед тетей я Паней предстал, наверное, через год. Это была пожилая сухонькая женщина, совершенно седая и с прищуренными хитренькими, лисьими глазками. Этими своими глазками она не только ощупывала меня с ног до головы, но, казалось, проникала глубоко внутрь. В конце концов она, по всей вероятности, поставила на мне «разрешительную печать». Домой я возвращался уже глубокой ночью. Никакой городской транспорт не работал. Я бодро и весело шагал в одиночестве почти через всю пустынную, затихшую Москву, и ни разу не произошло каких-либо инцидентов. Милиция работала отлично. В то время Москва была очищена от хулиганья, воров и проституток.
Мы не бывали в ресторанах. Это считалось предосудительным, да и было совсем не по карману. Мы ходили в кино. То было время, когда на советские экраны ворвались фильмы итальянского неореализма. Многие из них потрясали. Там была правда, неприкрытая, неподслащенная; люди обычные, простые, такие, как мы — бедные, не знающие, что такое богатство, и не жаждущие его. Нам казалось, что мы видим и нашу жизнь, такую, какой она сложилась после страшной войны. Это были фильмы «Рим — открытый город», «У стен Малапаги», «Похитители велосипедов», «Земля дрожит» и самый мой любимый «Два гроша надежды». И сейчас вижу: вот он, герой фильма безработный Антонио, бежит рядом с повозкой, в которой восседают туристы, помогая лошадям тянуть ее в гору. Он, наконец, нашел себе работу...
Лучшие наши фильмы тех и последующих лет, я думаю, немало взяли от итальянского неореализма: «В огне брода нет», «Служили два товарища», «Весна на Заречной улице», «Живет такой парень», «Осенний марафон», «Мой друг Иван Лапшин» и многие, многие другие. Они тоже незабываемы. /211/
«Тяжкой тачкой руки пачкать...»
А я по-прежнему принимал грошовые взносы и по протоколу сдавал их во Фрунзенский райком комсомола на Смоленской. Принимала их у меня инструктор Тамара Васильевна Голубцова. Девушка, что называется, «в теле», круглолицая, нос картошечкой, и не слишком разговорчивая — то, что как раз во вкусе партработников среднего звена и кадровиков. Все же она как-то сказала, что тоже историк, кончила МГУ и дружила с Софой Пружанской.
— Так это ж сестра моей жены!
С лица Тамары Васильевны сползла партофициальность. Она стала расспрашивать меня, доволен ли я работой в ШРМ и не хотел бы перейти в Библиотеку им. Ленина, где сейчас набирают людей. Я, конечно, сказал «да».
Отделом кадров огромной Ленинской библиотеки, помещавшимся во флигельке церковного дворика на улице Маркса и Энгельса, заведовала совсем маленькая и худющая бабенка со злым лицом по фамилии Любомудрова. Бегло и, как мне показалось, с отвращением просмотрев мою анкету, она направила меня в отдел иностранного комплектования. Он находился в каком-то бетонном подземелье. Руководили им две дамы, и в самом отделе преобладали женщины. Начальницы велели выдать мне длинный черный халат и прикрепили «к тачке». В объемистой тележке с высокими бортами я развозил по 19-этажному библиотечному хранилищу возвращенные читателями книги, журналы, газеты. Такова была моя работа, вероятно, с год. Потом мне дали другую. После ХХ съезда партии началось частичное освобождение некоторых материалов из спецхрана библиотек. В «Ленинке» из отдела спецхранения перемещались в открытый доступ старые иностранные газеты. Но на каждой газете стоял штамп «спецхран». На нем следовало поставить штамп «погашено». Меня /212/ и перевели на этот участок. Газет было множество тысяч. Надо мной поставили контролера: высоченную дебелую женщину. Я знал, что от нее недавно ушел муж, и не ждал пощады. Так оно и было. Она постоянно проявляла недовольство мной и жаловалась на меня руководящим дамам. Но всему приходит конец. Вот уже и перештамповано все газетное старье, и я на тачке перевез его в открытый доступ. Куда меня теперь? Кто мне в этот момент «подсобил» — не знаю. Только неожиданно я поднялся на целую ступеньку.
А Тамара Васильевна Голубцова сделала просто головокружительную карьеру: со временем стала аж заместителем министра культуры! Она могла быть заместителем любого начальника, но культуры?!
«Новое время» и «История СССР»
Главными фигурами в нашем отделе были комплектаторы. В каталогах иностранной литературы они находили нужные для приобретения книги и отмечали их карандашиком. Для всего остального им придавались помощники. Они должны были вы- писывать отмеченные книги на карточки, составлять из них картотеки и часами стоять в генеральном каталоге, проверяя, нет ли дубликатов. Я стал помощником комплектатора по английской и американской литературе и так познакомился с «элитой» отдела. Коплектатором германской литературы был старик П.Х. Кананов. В свое время он работал в Коминтерне бок о бок с будущим знаменитым разведчиком Рихардом Зорге и рассказывал о нем немало интересного. Сдружился я и с комплектатором скандинавской литературы С.М. Мирным. Он был дипломатом еще литвиновской школы, долго работал с /213/ А.М. Коллонтай, попал в лагерь, оттуда в войну рядовым добровольно ушел на фронт. Работали в отделе и другие люди, за которыми было очень большое прошлое.
Библиотечные ставки — низкие. Я искал побочную рfботу. Книга, чтобы получив шифр, встать на свое место, должна проделать не очень короткий путь. Начало этого пути — комплектатор или его помощник. Поступали новые книги и ко мне. Я не обращал на них особого внимания, пока в руках не оказалась книга какого-то английского автора «Сталинград — поворотный пункт 2-й мировой войны». Полистав книгу, вдруг подумал: «А что если написать на нее рецензию и отправить в какой-либо журнал?». Написал. Выбрал «Новое время» и отправил по почте. Недели две не было никакого ответа. А потом, открыв новый номер журнала, я увидел свою рецензию... напечатанной! Вот это да! Написал еще, затем еще и еще. И все рецензии были напечатаны. Через некоторое время — телефонный звонок.
— Говорит член редколлегии «Нового времени» Лев Безыменский. Мы напечатали ваши рецензии, они нам нравятся. Не могли бы вы зайти ко мне в редакцию?
Лев был сыном известного в 20-е и 30-е годы комсомольского поэта А. Безыменского, в годы войны был переводчиком у маршала Жукова и др., написал много интересных книг.
Круглая, как шар, лысая голова. Румяные, прямо-таки красные щеки. Спрашивает:
— Хотим пригласить вас работать в журнале литконсультантом. Вы бы согласились?
— Я?! Конечно!
— Но иногда придется работать по ночам. Для вас это возможно?
Мне смешно. Нашел препятствие! Да сколько хотите! — Тогда идите в отдел кадров и оформляйтесь! /214/
Я шел туда, чуть ли не приплясывая. Вот везение! В комнате отдела меня встретил высокий мужчина военной выправки. Он дал мне не одну, а три анкеты, и я тут же сел их заполнять. Все анкеты мои без сучка и задоринки. Чист, как новорожденный. Не был, не состоял, не участвовал, нет, нет, нет. Только вот пятый пункт... Кадровик прочитал анкеты и велел позвонить через неделю. Это охлаждало, с этим я уже сталкивался. Исключения не произошло. Я звонил ему несколько недель подряд, пока до меня не дошло, что звонить больше не надо. Ну, не надо. Все.
Однако попытки проникновения в журнальную сферу я не прекратил. Мне повезло. Кажется, в 1957 году академический Институт истории СССР создал свой журнал «История СССР». Главным редактором стала академик М. Нечкина, а ее заместителем – молодой тогда С. Шмидт, сын известного ученого, полярника, особенно прославившегося в ходе знаменитой челюскинской эпопеи в феврале 1934 г. (тогда пароход «Челюскин» был раздавлен льдами в Карском море, и вся страна следила за спасением находившихся на «Челюскине» людей, возглавляемых Отто Шмидтом). Дело могло закончиться и трагично, но и «челюскинских шуток» было немало. Даже я запомнил веселую песенку, распевавшуюся тогда:
Шмидт сидел на льдине,
Словно на перине,
И качал своею бородой.
Если бы не летчик,
Миша Водопьянов,
Он бы оказался под водой!
Но с той поры прошло много времени. Сын того Шмидта стал историком и, думаю, не без его инициативы в журнале «История СССР» был создан отдел «История СССР за рубежом». Задача отдела заключалась, главным образом, в разоблачении «буржуазной фальсификации» советской истории. Но параллельно с этим разоблачением мы все-таки могли /215/ узнавать и о существовании иных, «немарксистских» трактовок событий истории России и СССР.
Редакция журнала находилась на Кузнецком мосту, по-моему, в доме какой-то захудалой гостиницы. Отдел «История СССР за рубежом» занимал небольшую комнату. В нем работали два совсем молодых парня — Юрий Карякин и Евгений Плимак. Узнав, что я работаю в библиотечном отделе, в который поступает литература из-за границы, Карякин «мобилизовал» меня. Я написал в его отдел несколько материалов и с той поры стал постоянным автором журнала.
Позднее Карякин приобрел широкую известность. Он уехал в Прагу, где работал в журнале «Проблемы мира и социализма», а вернувшись, увлекся Достоевским, написал о нем много работ. Близко сошелся с Солженицыным, а в перестроечные годы демократы, возглавляемые А. Сахаровым, превратили Карякина чуть ли не в одного из своих лидеров.
Дорогие мои полковники
Работа в отделе комплектования мне порядком наскучила. Начальницы относились ко мне плохо. Я к ним — не лучше. Был у меня знакомый парень из другого — военного отдела. Это был Николай Глаголевский — небольшой, кругленький, белесый, с усиками. Бывший фронтовик. Правый рукав рубахи он засовывал под брючный ремень: руку потерял на войне.
Вот этот Глаголевский как-то раз заговорил со мной о переходе в их отдел. Дело состоялось.
В этом отделе, в основном, работали бывшие военные, отставники. И начальник отдела тоже был отставник — полковник Николай Иванович Иванов. Всегда в форме, при погонах.
— Ну, вот что, — сказал он, когда я впервые пришел в отдел. — Будешь составителем бюллетеня. Очень важного. Содержит аннотации статей иностранных военных журналов. В подчинении у тебя — три полковника-отставника, все из ГРУ. /216/
Знаешь, что такое ГРУ? Знаешь. Молодец! Ты с ними будь уважительным. И еще. В общей комнате сидеть не обязательно. Работай где хочешь, меня это не касается. Но чтобы бюллетень лежал у меня на столе точно в срок. Точно! Понятно?
Все три мои полковника были «хваты». В праздники, надев мундиры, они от плеч чуть ли не до коленок звенели и блестели орденами и медалями. И я как-то сказал им:
— Да вы же бесстрашные герои!
— Бесстрашные? — усмехнулся мой любимый полковник Валентин Иосифович Немчинов. — Хотите маленькую историю расскажу? Нас десять человек забрасывали в тыл к немцам. На парашютах. Боялись почти все. Спрашивали у инструктора-капитана: как и когда надо дергать парашютное кольцо? А тот смеялся: «Ничего не нужно дергать. Думай только, чтобы кальсоны остались чистыми. Остальное парашют все сделает сам». Перед прыжками из открытых дверей самолета дрожали у нас ноги и руки. Помогал капитан. Ударом тяжелым сапогом под зад. И летишь к туманной земле.
Я проработал со своими полковниками примерно год. Вызвал начальник.
— Хвалят тебя твои полковники. Надо тебя продвигать. Чего тебе в нашей библиопекарне сидеть? Я слышал, ты в историческую аспирантуру мечтаешь. Дело. Мы тебе подсобим. Историки – все партийные. Примем тебя в партию.
— Да я не дозрел...
— Там дозреешь. Надо три рекомендации. Две дадим здесь. Третью добывай в своем бывшем отделе.
Весельчак Глаголевский, у которого я попросил дать мне рекомендацию в партию, неожиданно ответил смешком:
— Поставишь пол-литра, дам.
— А ты юморист.
— Без этого в партии нельзя...
Вторую рекомендацию в отделе мне дал «мой» полковник
Мендель Пейсахович Лукомник — маленький, худенький еврей /217/ с большим партстажем... Когда я обратился к нему, он предложил мне выйти в коридор. Там сказал приглушенным голосом:
— Знаете, я очень рад, что евреи вступают в нашу партию. Ведь говорят, будто капитализм — еврейское изобретение. Клевета. Наша идея — коммунизм. Маркс был еврей.
Лукомник переписывал текст рекомедации несколько раз, взвешивал каждое слово. Потом прямо-таки каллиграфическим почерком изложил написанное на красивом листе. Вручил мне и, поздравляя, долго тряс руку. У него выходило, что партии без меня никак не обойтись, что принять меня надо безотлагательно.
За третьей рекомендацией пришлось идти в прежний отдел. Начальницы встретили меня исподлобья. Я разыскал сотрудника отдела Семена Максимовича Мирного, с которым долго работал. У нас были доверительные отношения. Выслушав меня, он сказал:
— Дело серьезное. Выйдем на улицу, поговорим.
Вышли. Приткнулись к колонне, закурили. Спрашивает: — Итак, решили вступить в партию? Это правильное решение. Но я должен сказать, что в партии сейчас жлобско-перерожденческое руководство. В стране — раздолбайство. Вы и сами видите.
Я сказал ему, что в последнее время заинтересовался некрологами высоким партработникам, не ниже секретарей обкомов, которые печатаются в «Правде».
— И какой же вывод?
— Знаете, в подавляющем большинстве они — выходцы из деревень, из крестьян. Были, наверное, среди них дети или внуки зажиточных, а то и раскулаченных.
— Любопытно! Раньше или позже, мелкобуржуазная жилка у такой публики проявится, и она потянется к собственности, мещанство возьмет верх. Социализм ему противопоказан.
— Так, может, мне не...
— Нет, нет, надо вступать. Чем больше в партии будет приличных людей, тем быстрее она очистится.
— Это ж сколько лет потребуется!
— Ну что делать? Рекомендацию я обязательно напишу. /218/

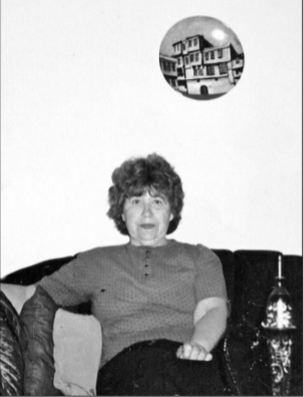 одна, а с кем-нибудь из учителей. В пальто с белой меховой опушкой на воротнике и в такой же шапочке типа «Снегурочка».
одна, а с кем-нибудь из учителей. В пальто с белой меховой опушкой на воротнике и в такой же шапочке типа «Снегурочка».