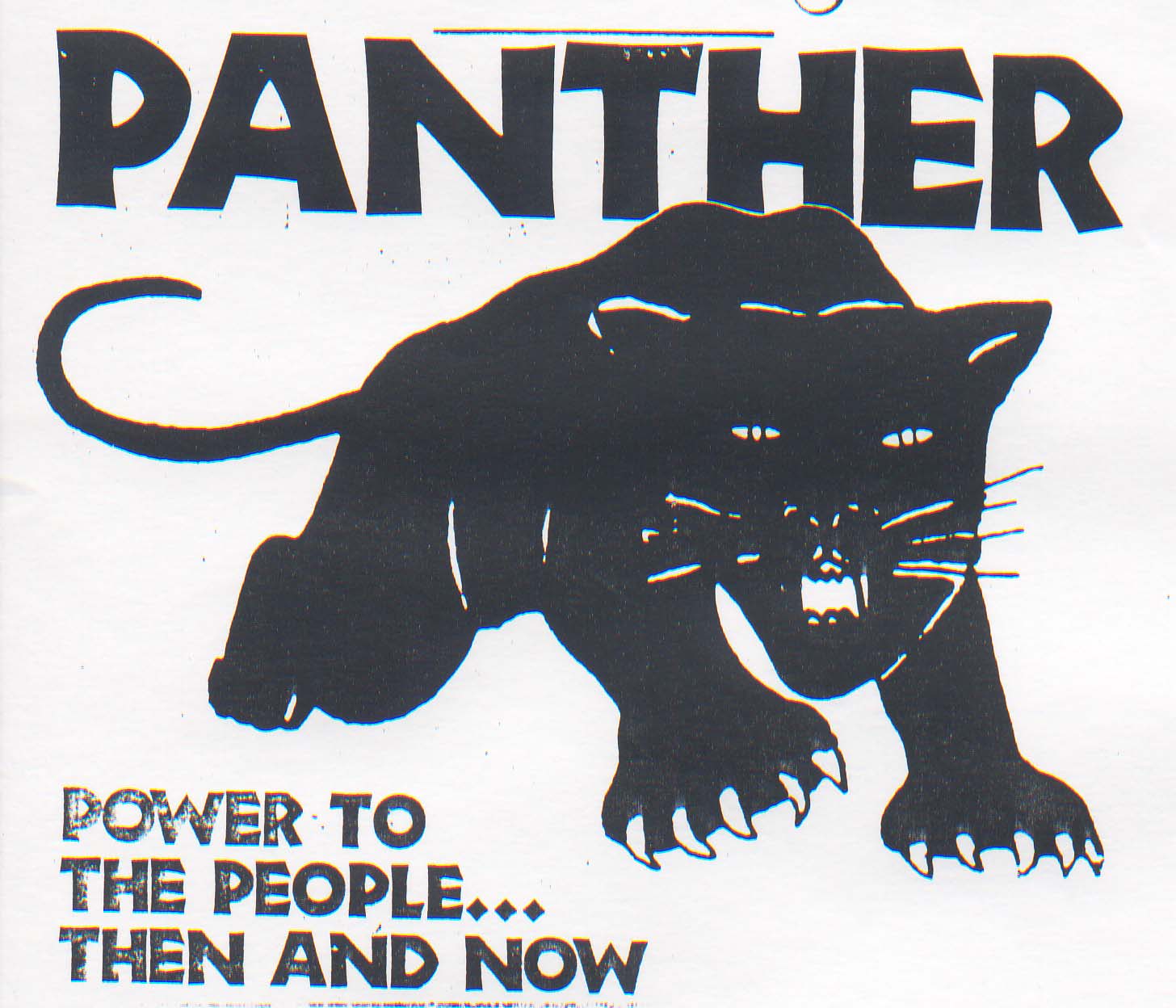Коленька (Вместо предисловия)
Писать об этом мне очень тяжело. Невообразимо тяжело.
12 января умер удивительный человек, уникальный неакадемический африканист, специалист по африканской (и не только) современной музыке, оригинальный культуролог, историк западных субкультур и «новых левых», мой большой друг Николай Аркадьевич Сосновский.
Близкие друзья звали его даже не Колей, а Коленькой. Такие трогательные чувства он вызывал.
Николай Сосновский был одним из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. Он искренне пытался понять и оправдать даже тех, кто был ему не близок и отличался от него взглядами. Эта «хипповская» составляющая его сознания позволяла ему, убежденному атеисту, мирно уживаться с представителями любых религий — тем более, что его к этому подталкивал его интерес этнографа. Единственные, с кем он не мог договориться и кого не терпел, — это религиозные фундаменталисты (неважно, христианские, мусульманские, иудаистские или еще какие). Их он не выносил за крайнюю узость мышления, тупость и вытекающую из них примитивную склонность к насилию.
Коленька был натуральным бессребреником. Если кто-то в его окружении в чем-то нуждался, а он об этом узнавал и мог помочь — он обязательно помогал (поэтому в норме его друзья старались лишний раз ни о чем таком не говорить). Когда вдове Кивы Майданика понадобились для работы дорогие зарубежные книги, Сосновский купил эти книги. Когда «Скепсису» срочно понадобилось заплатить за зарубежный хостинг, заплатил Сосновский. Мягкий и непробивной, когда дело касалось его самого, он мог стать твердым и настойчивым, если нужно было помочь другим. Когда у Умки сгорел дом, Сосновский решил отдать ей свой гонорар за книгу Эбби Хоффмана, выпущенную в серии «Час “Ч”». Выбить деньги из издателя оказалось непросто. Тот полностью соответствовал характеристике частного издателя, данной Лимоновым: «издатель обыкновенно существо одновременно тщеславное, прижимистое, капризное, истеричное». Коля был этим очень травмирован, писал мне полные недоумения и возмущения письма. И если бы речь шла о нем самом, Сосновский, наверное, махнул бы рукой: дескать, нет денег — и это не деньги. Но тут речь шла о погорелице Умке. И Коля проявил совершенно нетипичную настойчивость, получил-таки свой гонорар и отдал его Умке.
Почти всю свою сознательную жизнь Сосновский прожил бесквартирным, перебираясь из одного общежития в другое. Вдобавок ко всему у него очень долго не было никакого паспорта, кроме старого советского. При каждом переезде неизбежно терялась часть накопленной библиотеки, что Колю очень расстраивало. Этот травматический опыт заставил его, когда он начал прилично зарабатывать (работая в Грузии и в Азербайджане), озаботиться покупкой жилья. На это он убухал несколько лет жизни. Заработал. Может, и не стоило…
К советской власти и КПСС Сосновский относился очень плохо. К капитализму, впрочем, еще хуже. Именно потому, что изучал «третий мир» — и видел, чем обернулся капитализм для «третьего мира». Сосновский понимал, что и одно, и другое — два разных варианта одной и той же Системы, и так прямо и писал.
На похоронах жены, Женечки (иначе, как Женечкой — с Колиной подачи — никто ее и не называл), Сосновский вдруг стал говорить мне, как он жалеет, что мы не были знакомы в 70-е: если были бы, он бы обязательно присоединился к нашей партии, морально и идейно он был к этому совершенно готов… Пришлось его останавливать и говорить, что я и сам это прекрасно знаю: мало с кем у нас возникало такое взаимопонимание с полуслова, как с Колей.
Я не стал ему говорить, что это хорошо, что не знал и не присоединился. Присоединился бы — не попал бы в 1981 году в Анголу, не увидел бы свою любимую Африку. И мы бы не получили того Николая Сосновского, которого знали…

По своим политическим взглядам Николай Сосновский был типичным «новым левым». Он им был еще тогда, когда у нас никаких «новых левых» не было. «Хипповскую» доброту и страсть к ненасилию он успешно совмещал с признанием справедливости и неизбежности революционной борьбы и, следовательно, революционного насилия. Любовь к Че Геваре, Кваме Нкруме, Хо Ши Мину и «уэзерменам» он сохранил на всю жизнь. Несколько лет назад он съездил на Кубу, очаровался этой страной, ее народом и ее атмосферой и стал испытывать глубокую неприязнь к, как он говорил, жлобам, меряющим все на деньги и потому смеющимся над небогатыми кубинцами. Колю на Кубе моментально признали «своим». Однажды он отправился на пляж в одних плавках — и вернулся (как вспоминала потрясенная Женечка) очень нескоро и вусмерть пьяный: эти самые небогатые кубинцы запоили Колю ромом, опознав в нем ангольского ветерана…
Николай Сосновский обладал удивительной способностью находить общий язык с хорошими людьми в любой стране. Ему помогал дар к языкам: он владел, помимо русского, украинским, латышским, английским, португальским, испанским, французским и суахили. А читал, помимо того, на немецком, итальянском, нидерландском и африкаанс и еще немножко на полудюжине других языков.
Есть люди, которых «хиппи» Сосновский остро, совсем не по-хипповому, ненавидел. Он ненавидел фашистов, расистов, ксенофобов, колониалистов и империалистов. Это был рубеж, за который гуманизм Коли не распространялся. Почти так же плохо Сосновский относился к хищникам, бандитам и жлобам. То есть всем тем, кто всплыл наверх после распада СССР. Выросший в Херсонской области, он после начала донбасских событий поразил меня прогнозом: «Ну да, номенклатурно-литературные столичные бандеровцы — и три донбасских поколения, выросших в бараках или вкалывавших в шахтах… Они там думают, что нет никакого классового чувства. Они еще увидят, что такое классовое чувство!»
Советские и постсоветские академические уроды сделали всё, чтобы не пустить Сосновского в официальную академическую среду. Сначала они набросились на его диссертацию, «резали» ее как могли. И тема была «не та», и идеология «не та». Ахмед Искендеров, членкор, бессменный главный редактор «Вопросов истории», вцепившийся в это кресло мертвой хваткой и доведший журнал до нынешнего позорного состояния, иронически вопрошал: «Кому нужны африканские металлисты?» («металлистами» он по безграмотности называл растафари, именно культуре растафари была посвящена диссертация Сосновского — совершенно пионерская в отечественной науке). В отличие от Коли я этого Искендерова, к счастью, видел один раз в жизни — когда меня приглашали на работу в «Вопросы истории». Мне хватило. В «Вопросы истории» я работать не пошел. Позже мне говорили, что Искендеров — не просто «партийно-номенклатурный ученый», но и «партийно-спецслужбистский». Верю. Коля, впрочем, утверждал, что претензии к теме и к идеологии были лишь прикрытием раздражения, которое он у этой публики вызывал: явился такой молодой, волосатый и бородатый (явно хиппи!) нахал, который мало того, что читал все, что читали они (в спецхране, чем они очень гордились!), но сверх того и массу еще чего-то загадочного, знает что-то не менее странное и загадочное, да еще и с живыми объектами изучения на равных общается! Как можно терпеть таких наглецов?! И вообще, это же конкурент. У того же Искендерова, по воспоминаниям Сосновского, один из аргументов звучал так: «Я был в Америке». То есть эта публика смотрела (и смотрит) на академическую деятельность как на кормушку и боялась, что их кто-то от этой кормушки оттеснит.
В 1992 году, когда уже не было Советского Союза и в науке официально была провозглашена «деидеологизация», традиционным способом остановить Сосновского уже не смогли. Он с блеском защитил свою диссертацию по растафари. Но вот не взять его на работу в Институт Африки РАН оказалось вполне возможным. Повод: у Коли нет московской прописки! А у него вообще не было никакой прописки. У него даже российского гражданства тогда не было.
Ну конечно, как же можно быть ученым без прописки? Прописка же — самое главное! Скажите об этом Спинозе. Скажите об этом Эйнштейну. Отечественная академическая наука сама себя ударила под дых. Но, может быть, для Коли это и к лучшему. Не выжил бы Сосновский в нашей академической гуманитарной среде. Там ведь полно таких персонажей, сделавших такую карьеру! Вот, например, Юрий Пивоваров, герострат ИНИОНа, человек, который как-то на приеме в венгерском посольстве вдруг почему-то (сливовица?) разоткровенничавшись, стал мне «объяснять», что идеалы и мораль — это все ерунда, жизнь коротка и нужно брать от нее все, — академик. При том, что все написанное Пивоваровым — либо банальности, либо глупости (причем глупости тоже неоригинальные, заимствованные). А Николай Сосновский — абсолютно оригинальный исследователь. Каждая его статья — пионерская.
Отторгнутый официальной наукой, Сосновский получил и более открытую и благодарную аудиторию, и стилистическую свободу. Он, правда, признавался, что, не уверенный в том, что его молодые и мало знающие неакадемические читатели примут написанное без разных «фенечек», он старался уснащать свои тексты стёбом и всевозможными (бытовыми и т.п.) отступлениями, что вроде как делает эти тексты менее серьезными, но зато у Коли оказались развязаны руки, никто не мешал ему писать, не оглядываясь на «авторитеты» — и писать совершенно оригинальным стилем.
А благодарные читатели у Сосновского были — и они были куда интереснее, чем засушенные и всего боящиеся наши академические «научные сотрудники». Один Гера Моралес чего стоит.
Последний год жизни Коли оказался чудовищно тяжелым. Умерла от рака его жена Евгения Стрижова, Женечка… Коля сидел с ней в больнице, она умирала на его руках. Практически все заработанное он потратил на ее лечение, на облегчение ее состояния. Сразу после смерти Женечки Коля вдруг узнал, что опять стал бездомным и ему некуда возвращаться из Грузии (где он работал): сын Женечки от первого брака и фактически Колин пасынок повел себя подло и потребовал, чтобы Сосновский выметался вон и вывез все свои вещи (в основном книги). Это при том, что и на жилье заработал Коля, и даже работу для пасынка нашел тоже он (доброй души человек, Коленька не удосужился даже оформить на себя какое-то жилье — все было записано на пасынка…). Я и называть имя этого человека не хочу, так он мне неприятен. Сосновский впал в очень тяжелое душевное состояние, не мог ничего писать, говорил, что размещает посты в фейсбуке только для того, чтобы создать впечатление, что жизнь продолжается… «Саша, у меня все плохо. То есть так плохо, что трудно даже описать», — писал он. Поколение уродов, выращенное капитализмом, отомстило противнику капитализма.
Николая Сосновского нашли лежащим без сознания на полу его тбилисской квартиры. Ишемический инсульт. Ишемический инсульт отличается от геморрагического тем, что если вовремя — в течение первых часов трех — начать лечить и устранить причину ишемии (обычно тромб), то можно не просто спасти больного, но и полностью реабилитировать: какое-то количество клеток мозга, конечно, погибнет от недостатка кислорода, но не фатальное. По заключению врачей, Коля пролежал без помощи 12 часов. Спасти его было уже нельзя.
Многие годы практически всё, что он зарабатывал, Коля тратил на книги, журналы, диски, фотоальбомы по африканской культуре и музыке. Он собирался выйти на пенсию — и сесть писать свой opus magnum, книгу об африканской музыкальной культуре. Не желая быть «книжным червем» и пересказчиком, он ездил на фестивали африканской музыки, лично знакомился с музыкантами. Коля даже написал введение к этой книге. Он даже дожил до пенсионного возраста (в декабре прошлого года ему исполнилось 60)… Дальше он не успел.
Opus magnum остался ненаписанным. Другого человека, который так знал бы и понимал африканскую музыку, у нас в стране нет. И не только у нас в стране.
Академические уроды могут втайне радоваться. Мы — скорбим.
Александр Тарасов
13—17 января 2016
«Если Америка и испытает когда-нибудь великие революции, то из-за чернокожих», — писал в 1830 году автор «Демократии в Америке» Алексис де Токвиль[1].
Как подметил старикашка Маркузе, по мере превращения американского общества в одномерное скопище жизнерадостных жертв mass-media, последним прибежищем базовых ценностей американской демократии стали стоящие вне Великого общества[2] этнические и расовые меньшинства. Мудрый редактор сборника документов партии «Черная Пантера» подобрал эпиграф из отца-основателя Томаса Джефферсона (крестного папы «Самолета» и «Звездолета»[3]), сказанные им в 1787 году:
«Полагаю, маленький бунт время от времени — штука хорошая и столь же нужная в политике, как буря в природе… Не дай боже, у нас когда-нибудь пройдет 20 лет без такого бунта... Да какая же страна сможет сохранить свои свободы, если ее правители не получают временами предостережений о том, что в народе сохраняется дух сопротивления. Пусть он берется за оружие».
Расовые волнения в гетто (а их в 1964—1969 годах вспыхнуло 1893, при этом 53 тысячи человек были арестованы, восемь с половиной тысяч ранены и 220 убиты) стали фоном и катализатором для радикализации Молодежной революции. Даже президент Никсон, как говорят, обмолвился: «Черт возьми, если бы я был черным, сегодня я тоже был бы революционером!».
Нам из-за Железного занавеса было как-то не видать, что Движение шестидесятых развивалось в постоянном диалоге с культурой афроамериканцев. В нем оно находило образец альтернативной культуры. В свою очередь, то, что происходило в 60-е — 70-е в среде афроамериканцев, было результатом и отражением брожения в молодом поколении белой Америки. Это как бы два отражающих друг друга зеркала. Без этого взаимовлияния их не только невозможно понять, они были бы просто невозможны. Итак, какое же место в американской картине мира занимает Черный Человек?
Культура боится абстракций. Она начинается с наделения безразличных ко мне объектов значимыми для меня свойствами: весне и восходу приписывается надежда, осени и закату печаль, Братцу Лису хитрость, а чукче наивность. Отвлеченные понятия не могут висеть в пустоте: им нужен носитель, персонификатор — так происходит разметка культурного пространства. При этом, чтобы осознать себя, культура создает Образ Себя и несколько Образов Другого — и наделяет их этими самыми абстрактными качествами. Лучше всего для этого подходят соседи: этот вот народ — маленький, но гордый, этот — хитрый и вероломный, этот — глупый и дикий, этот — педантичный и прижимистый, а эти только и знают, что петь, плясать и трахаться. Так национальная культура осознает саму себя и оттеняет собственную особость (естественно, как сама ее понимает). Обычно эти условные образы национальной мифологии ничего общего не имеют с их конкретными носителями, да это и неважно. Художественное произведение всегда стремится к тому, чтобы стать удобным объектом для структуралиста. На этом оно, правда, и заканчивается как произведение искусства, зато становится идеальной схемой для культуролога. Все в нем симметрично, на диво продумано и отлажено: стрелочка туда, стрелочка сюда, а здесь рисуем квадратик. Вся русская словесность от фольклора до авангарда строится на нескольких квазинациональных образах. Есть «Я», человек русский и, значит, «нормальный». Культурные нормы и запреты меня гнетут, но в меру — как раз настолько, чтобы удержаться на золотой середине между полным одичанием и превращением в задавленного культурой робота. Есть человек, безнадежно угнетенный культурой. В русской картине мира это немец (если отталкиваться от Марк Твена как образцового носителя американского духа, то припомним затюканного дисциплинированного немецкого мальчика, свихнувшегося от зубрежки). Немец трезв, честен, трудолюбив, но все равно какой-то не такой, неприятный: духовности-то, духовности-то настоящей и нету! То ли дело мы. Зато в периоды кризиса (кризисами и жива культура) и сдвига ценностных систем обнаруживается, что и у нас тоже с духовностью облом. Тогда-то и появляется нужда в духовном Другом: индусе, японце, тибетце, африканце и так далее.
На другом, противоположном воображаемому приземленному «немцу» полюсе этой условной модели мира — фантастический образ раскованного, не знающего запретов, порывистого и экспансивного человека, живущего страстями. В русской культуре это цыган (а до появления на Руси цыган — берендеи[4]), в американской — чернокожий. В убогих фрейдистских терминах условный зажатый «немец» — это проекция «Сверх-Я», а воображаемый эмоциональный «африканец» — это темное будоражащее «Оно». Русский человек ведет себя подобно американскому: когда трезв, может грешить плебейским расизмом, но хватив лишку, по зову генов норовит «рвануть к цыганам» или «сбацать цыганочку с выходом».
В Англии конца 50-х появляется черная диаспора с Карибов — и юный Леннон, как он позже признался в интервью, завидовал им: «Я хотел бы вести себя, как чернокожие: бить, ломать, крушить, насильничать». Понятно, что черные иммигранты в Ливерпуле вряд ли так уж распоясались, но в сознании стихийного панка Джона (родившись на пятнадцать лет раньше срока, бедняга Леннон на потребу моему поколению вынужден был играть совсем другую роль, от которой его, боюсь, втайне подташнивало) черный человек должен был быть именно таким и делать все то, что запрещали Джону тетушка, полиция и педагоги. А как иначе: должен же здесь быть хоть кто-то живой!
Вот красноречивая цитата из книги одного из лидеров SNCC[5] Джулиуса Лестера «Берегись, белая морда! Black Power[6] тебе покажет!»: «Белые бы так до сих пор менуэты и танцевали, если бы не оказалось рядом черных, которые придумали все танцы от чарльстона до бугалу. Им приходится рядиться черными на карнавалах, чтобы сбросить бремя суровой морали их общества. Они отравлены пуританской нравственностью, заставляющей их стыдиться самих себя, стесняться своего тела. Черные стали для них отдушиной, ведущей в манящий мир греха («Счастливые ниггеры! Могут грешить напропалую день и ночь», — вот главный повод, чтобы белый поц возненавидел черных»)»[7]. Он же, кстати, видит в хиппи самоотрицание мира белых.
Сами афроамериканцы с удовольствием приняли правила игры и создали американский вариант негритюда, концепцию SOUL — особо эмоциональной, чувственной души черного человека. В моду вошло все, что soul: музыка soul, кухня soul, одежда в стиле soul, прически и т.п., а друг друга стали называть «soul brother». Что там задиристый забияка Леннон — даже Клеопатра мировой попсы Мадонна сказала в интервью журналу «Rolling Stone» (23.III.1989): «Если быть черным — то же, что иметь soul, тогда да — и я тоже чувствую себя черной».
На самом деле, квазинациональная картина мира намного сложнее. Персонажей в ней десятки. Тут есть и носители всех прочих качеств, причем распределяются они обычно так: чем ближе к нам живут, тем больше неприглядных черт. Поэтому плебейский национализм, к сожалению, неистребим: он заложен в природе и структуре культуры. Но прочие образы нас пока не интересуют. Что до образа Свободы, Естественности (причем вовсе не обязательно положительного, конфуцианец и даос понимают отношения Природы и Культуры по-разному), то и он намного сложнее. В русской культуре он распадается на свободу богемно-забубенную, гедонистическую и свободу романтически-опасную, тревожную и рисковую. Веселый гуляка и мрачный благородный головорез — два выхода из повседневности. Отсюда такое место, наряду со Штольцами, Германнами, Борисами Бергами[8] и гоголевскими Гофманом с Шиллером в русской культуре играют Кавказ и цыгане. Первые — скупые на слова романтические абреки, вторые — «поют и пляшут». Есть еще свобода невинного дитяти (Аркадия, Таити), свобода идиота (......)[9], свобода мудрых, отрешившихся от желаний («Индия духа») — оттенкам свободы, как и нюансам несвободы, нет числа. В других культурах структура образов та же, но носители их могут меняться — иногда с точностью до наоборот. Да и сами образы склонны переворачиваться, менять смысл. Цыгане свою роль играют на совесть — не зря и слово «богема» происходит от названия цыган в европейский языках. Абреков же приходится придумывать каждый раз своих.
В американской культуре цыган и кавказцев потеснили Чернокожий и Индеец. Роль индейцев для американцев поразительно совпадает с ролью Кавказа в нашей культуре: та же смесь любви, ненависти и зависти, опасливого уважения, ужаса и восхищения. Точно так же веками два великих народа истребляли непокорных баламутов — и сочувствовали им. Через них целые поколения, выросшие в индейских и кавказских войнах, пытались понять себя: «Мцыри» и «Песнь о Гайавате», «Кавказский пленник» и Майн Рид — вплоть до «Маленького большого человека» с Дастином Хоффманом и кестнеровских «Танцев с волками».
Возвращаясь к Марк Твену, мы видим идеальную схему распределения степеней и разновидностей Свободы. За точку отсчета («среднеамериканское Я») берется в меру затюканный воспитанием, но сопротивляющийся ему Том, свобода которого, как ни печально, будет убывать по ходу взросления. Через сто лет он бы еще взбрыкнул: бросил бы колледж, подался бы с цветами в волосах в Сан-Франциско — но все равно бы кончил как яппи. Вниз по социальной вертикали свобода возрастает от благополучного Тома к уличному Геку, а по горизонтали — два полюса и две ипостаси свободы: индеец Джо и беглый раб Джим (мифическому образу рабство не помеха: «Счастливые солдатики, никаких забот», — завистливо вздыхала одуревшая от гарнизонной скуки чья-то офицерская жена, когда я, весь в мыле, проносился мимо на ежеутреннем марш-броске). Джиму не надо было ходить в школу — и в глазах Тома с Геком он был волен, как перелетная птица.
По мере того, как индейцы уходили в историю, образ Черного Человека начинает раздваиваться: из беспечно бренчащего на банджо под магнолией ленивца по ходу переселения афроамериканцев с Юга в гетто северных городов он превращается в образ неуправляемого сорвиголовы, грозного обидчика. Интересно, что постепенно и самими черными американцами культивировавшийся либеральной Америкой образ беззлобного добродушного увальня начинает восприниматься как расистский и оскорбительный, а расистский образ бандита и насильника вызывает желание отождествить себя с ним — ярче всего это выразилось в «gangsta-rap». «Эй, не стойте слишком близко — я Пантера, а не киска!»
Если говорить о радикалах, там картина мира и место в ней афроамериканцев примерно такова. Вот Мировой Город, как потемкинская деревня из картона — одномерный. Веселая Толпа Одиноких жизнерадостно валит от конвейера в супермаркет и дальше — телевизор смотреть, мозги промывать. Вокруг Мировая Деревня. Там весело: славные ребята в хипповых (сейчас бы сказали: «стильных») пижамках от дядюшки Хо бьются насмерть за свободу. На отшибе дымит вонючими трубами Рабочий Поселок. Там оппортунисты в очереди толпятся: колбасой по два двадцать отовариться. В Мировом Городе не все так уныло. Откуда-то снизу, из подполья музыка играет — не то Хендрикс, не то Фил Окс, не разобрать, потому что глубоко: Андеграунд. Там пипл задвинулся, настроился-взвелся-выпал[10], обчитался до тараканов Дебре[11] с Мао и думает, как дальше быть. А наверху стреляют — это наши. Ребята из гетто пошаливают, им все равно терять нечего, им у конвейера места не хватило. И получается так, что это и есть авангард мировой революции, и без них наверх вылезать боязно. Все — от рассудительных «социальных критиков» до невменяемого Чарльза Мэнсона — на них особо надеялись. Больше-то ведь все равно не на кого.
Основатель Партии Черные пантеры Хью Ньютон сказал об этом так: «В поисках новых героев и идеалов молодые белые революционеры обнаружили их в черной колонии у себя дома и в порабощенных колониализмом странах по всему миру»[12].
Другой лидер «Пантер» сказал еще забористей:
«Моя Свобода — это не засранная голубями мраморная (конечно, бронзовая, но так в тексте. — Н.С.) фигура монументальной тетки на берегу загаженной грязной бухты Атлантического океана... Моя Статуя Свободы — это крутой чумовой браток из гетто с дымящейся винтовкой в одной руке и пылающим факелом в другой»[13].
В очередном номере «Черной пантеры» появился комикс: два расхристанных хипа по дороге на демонстрацию за мир решили покурить «косячок». Свинья в полицейской форме обрушивается на миролюбцев с дубинкой наперевес. На последнем рисунке горемыки горько плачут в полицейском «обезьяннике». Мораль очевидна — без революционного авангарда, то есть «Пантер», хайрастые обречены.

Два основателя «Чёрных пантер», Бобби Сил (слева) и Хьюи Ньютон
|
При обыске в одном из отделений «Пантер» была изъята всполошившая конгрессменов книжка-раскраска. Подрастающей смене предлагалось раскрасить веселые картинки: чернокожие детишки изгаляются над свиньями в полицейских мундирах, стреляют в них, режут, избивают. Мочат, одним словом. В номере газеты «Черная пантера» 18.V.1968 «революционный художник» Эмори пишет: задача революционного искусства — изобразить врага умирающим или мертвым. На моих рисунках одна пуля прошивает 40 свиней, Стокли замахивается на монумент Свободы, «коктейль Молотова» летит в Рокфеллера (фантазия Эмори распаляется все сильнее, видимо в детстве ему здорово от полиции доставалось), свиньи висят на заборе, прибитые за опутанный колючей проволокой язык, а проволочка-то к высоковольтке подключена, вот что такое революционное искусство: свиньи дохлые лежат, и глаза навыкат. А вьетконговец[14] свинью-то штыком в башку, а черные ребята вырывают у нее сердце — еще одну зарубочку на ножичке поставим! Сдирают с них живьем шкуру на половички!»[15]. Дальше — еще пуще. Рисунки Эмори печатались не только в газете Пантер, но и на плакатах. По-моему, революционный художник превзошел Бориса Ефимова и Кукрыниксов.
В песне «Свободу Хью Ньютону!» пелось: «Хотим свиных отбивных! Забьем свиней!» Off the Pigs! — фраза тут же украсила стены и заборы, поспособствовав зарождавшемуся в гетто специфически афроамериканскому искусству граффити. Кливер[16] писал в ноябрьском номере «Черной пантеры» за 1969 год: «Во времена революции и освободительных войн ангелы разрушения и хаоса мне милее, чем дьяволы стабильности и правопорядка». «Революция, — сказал Кливер в другом месте, — это гордое слово, и нравственная правота за нами, ... у угнетателей нет таких прав, которые угнетенные обязаны бы были соблюдать». Последняя фраза — парафраз знаменитого постановления Верховного Суда США: в 1847 году, рассмотрев жалобу черного истца, суд постановил: «у черных нет прав, которые белые обязаны бы были соблюдать»[17].
«Министр иностранных дел» «Пантер и лидер» SNCC Джеймс Форман всерьез готовился пасть жертвой: «Если меня убьют, — говорил он, — то ценой мести за меня будет 10 военных заводов, 15 электростанций, 30 полицейских участков, 1 губернатор южного штата, 2 мэра и 50 копов. За Стокли Кармайкла[18] или Рэпа Брауна мы поквитаемся втройне, а за Хью Ньютона месть будет беспредельной!» («the sky is the limit!» — еще один канонических этюд для мастеров граффити). Хью говорил проще и спокойнее: «Я знаю, меня обязательно убьют». В революционных озорников из белого «среднего класса» миф о «настоящих партизанах», в любой момент готовых умереть, вселял сладкий ужас: а я — я бы так смог? Поколение шестидесятых готовилось умереть на баррикадах с песней Дилана — но только потом, завтра.
Другой координатор ненасилия, Рэп Браун (в «Пантерах» он получил пост министра юстиции) тоже был настроен решительно. 17 февраля 1968-го, когда в день рождения томящегося под арестом Ньютона в рамках кампании «Free Huey» произошло объединение «Пантер» с SNCC, Рэп призвал к расовой войне: «У меня есть программа, как за один день обеспечить работу всем чернокожим страны. Во Вьетнаме ведь нет безработных» («Пусть будет много маленьких Вьетнамов!»- ответили слушатели словами Че). Одновременно белый лидер SDS[19] Том Хейден призвал «легионы городских партизан» изменить Америку. «Вьетнам — здесь и сейчас», — подытожил Дэйв Мак-Рейнольдс из Мобилизационного комитета (антивоенной студенческой организации)[20]. В 1970-м Кливер по ханойскому радио обращается к черным солдатам: поворачивайте оружие против империалистов, возвращайтесь домой и воюйте за собственную свободу!
Черные радикалы заговорили о создании «Black Urban Army», Черной Армии городских партизан с девизом «Kill, Baby, Kill» («Burn, Baby, Burn», «Die, Baby, Die» — как только не оборачивалась невинная строчка популярной песенки[21]).
«Пантеры» все больше военизировались. Все члены имели звания — от рядового до фельдмаршала. Была принята резолюция о посылке вооруженных боевиков на помощь Вьетконгу. На предложение «Пантер» вьетнамцы ответили по-восточному уклончиво: большое-де спасибо, но пусть каждый пока сражается на своем месте.
Пантеры стали притягательным образом, олицетворявшим «Black Power».
Кое-какие традиции заговорщицкой деятельности уже имелись. Еще в 1965 году в Нью-Йорке стукач выдал «Black Liberation Army»[22], планировавшую взорвать Статую Свободы, Колокол Свободы и памятник Вашингтону, затем нанести бомбовый удар с воздуха по Белому дому, одновременно намечались нападения на полицейские участки, аэродромы и заводы по всей стране. Глава заговора якобы учился у вьетнамского майора на Кубе (если это правда, то называется это «пролетарский интернационализм в действии»). К концу 60-х в США было уже больше сотни воинствующих черных националистических организаций, ставивших на насилие. В 1967 году, в Лето Любви, в Филадельфии черные подпольщики создают «Движение революционного действия». Планы были достойны любимца Кливера Сергея Нечаева: убить черных лидеров движения за гражданские права, обвинить во всем расистов и вызвать волнения в гетто при помощи подростковых группировок[23]. Все дальше отходит от общенационального руководства нью-йоркская секция «Черных пантер», недовольная «недостатком боевитости». В начале 1969 года 21 член секции был арестован по обвинению в заговоре с целью мятежа, сигналом к которому должны были стать взрывы полицейских участков, супермаркетов и ботанического сада (?!).
В 1968 году образуется союз «Пантер с волосатыми». Самый примечательный отзыв «Власти цветов» на «Черных пантер» был вот каким. Детройтский трайб «Trans-Love Energies Unlimited» во главе с Джоном и Лени Синклерами[24] (незнание Джона дядюшка Артемий Троицкий в своей книжке[25] даже поставил в вину малограмотным доморощенным хипам — вот сколь велик был этот Джон) и Гари Гримшоу[26] перебрался в Анн-Арбор и там создал Партию Белые Пантеры — как он сам ее определил, «культурно-революционную группу, имеющую целью подрыв господствующей культуры всеми возможными средствами (по-моему, это явный парафраз знаменитой речи Малькольма Икса. — Н.С.), включая рок-н-ролл, дурь и траханье на улицах»[27]. Попутно Синклер продюсировал самую безумную рок-группу тех лет «МС-5», устраивал хепенинги и вообще оттягивался как мог.
Калифорнийская «Партия мира и свободы» выдвинула находящегося под следствием после апрельской перестрелки Элдриджа Кливера своим кандидатом в президенты. Кандидатом в вице-президенты был Джерри Рубин[28], вместе с Эбби Хоффманом лидер — сам он любил называть себя антилидером — йиппи. Как писал Рубин в своей бессмертной «антикниге» «Do It!» (кстати, именно Кливера Джерри попросил написать к ней предисловие), «Элдриджу хотелось союза между отвязными черными и отвязными белыми. Урки всех рас — объединяйтесь![29] ...Элдриджу хотелось союза между «пантерами» и психоделическими уличными активистами. И у него было одно требование к кандидату в вице-президенты: он должен был состоять под судом!» Иначе говоря, чем круче, тем лучше.
Вообще-то Элдридж к белым попутчикам поначалу относился свысока: сказалась генетическая память черного шпаненка, презирающего воспитанных белых барчуков в аккуратных костюмчиках. В мемуарах Кливер вспоминал, как в детстве вымогал деньги у «малолетних белых либералов» (c малолетними белыми расистами у юного Кливера, видимо, вообще разговор был короткий. — Н.С.), угрожая выпустить кишки перочинным ножичком: ты мне должен два доллара за 400 лет расизма и угнетения!»[30] Но уже во время второй отсидки Кливер начинает понимать, что с белой молодежью что-то происходит, и посвящает в тюремной книге отдельное эссе размышлению о «Битлз». Сил[31], кстати, поначалу тоже считал хипов мажорской причудой, а культурных националистов, с которыми не ладил, называл за яркие «африканские» прикиды «разновидностью черной хипни»[32].
Кливеру пришлось учиться разговаривать с белой молодежью. Особенно удалась речь перед «цветочным народцем» в Омахе: «Что же до «Черной власти», то у нас и белой-то власти тоже нет. У нас власть свинская... Вы думаете, что я — спятивший черномазый? Все мы здесь сегодня — черномазые со съехавшими крышами!» (аплодисменты — для замороченных средним образованием детей «среднего» же «класса» это был Праздник Непослушания, игра в Гека Финна).
Поскольку у Кливера были свои проблемы с властями, представлять его в Чикаго, где параллельно проходил съезд Демократической партии и альтернативный Праздник жизни, устроенный хайрастыми 25—30 августа 1968 года[33], поехал Бобби Сил. На лужайках главного городского парка выступали рок-группы, пипл курил травку, пускал мыльные пузыри, обсуждал буддистские джатаки в свете текущей политики и вообще тащился в полный рост. Называлось это «Yip-out» и «Fuck-in». Бобби оказался в одной компании с автором Порт-Гуронской декларации[34] и основателем SDS Томом Хейденом и другими олдовыми ('heavies'): Рубином, Хоффманом, Делинджером[35]. После изложения предвыборной платформы кандидатов был зачитан письменный самоотвод Кливера, снявшего свою кандидатуру в пользу кабанчика по имени Пигасус, как более достойного представлять американскую демократию. В имени нового кандидата (Pigasus) обыгрывалось чуть измененное с намеком на поросячью природу кандидата латинское «Пегас» (Pegasus). Но имелся в виду не мифологический жеребчик: «Операция Пегас»[36] — так называлось крупномасштабное свинство, затеянное американским «ограниченным контингентом» во Вьетнаме весною того же года.
Н.С.Вмешалась полиция, и, как вспоминал Рубин, «повязали в «воронок» девятерых, включая кандидата в президенты» (не Кливера, конечно, а Пигасуса).
Вся компания, кроме Кливера и Пигасуса, встретилась на знаменитом Процессе Чикагской восьмерки (после того, как Сил получил срок за неуважение к суду и потребовался как обвиняемый на другом процессе, она стала Семеркой). Тут был и Хоффман, и Рубин, и Бобби Сил с Томом Хейденом и еще несколько наших — всё очень достойный народ, Бобби с Рубином даже сидели вдвоем в одной камере и очень подружились. О чем они говорили — можно прочесть в их книгах. Как вспоминает Боб, он рассказывал Рубину о «Черной власти» (именно на Сила ссылается Джерри в своей книги, объясняя, что «power» — это способность выработать для себя собственное видение мира[37]), а Рубин ему — о хиппи и йиппи: «Он сказал, что йиппи — это политический аспект движения хиппи. Тогда я спросил Джерри, в чем же разница между хиппи и йиппи? — А хиппи — это те из наших, кто еще не обязательно въехал в политику». На вопрос Сила о смысле хайра Джерри отвечал так: «Это способ протеста и самовыражения. Когда у тебя длинные волосы, и ты отрицаешь Систему, это заставляет людей задавать тебе вопросы. И ты становишься ходячей наглядной революцией, когда идешь по улице с длинным хайром»[38]. Эту же беседу записал в своей великой книге и Джерри:
«Длинные волосы напрягают их сильнее, чем идеология, потому что это способ общения, это вроде телевидения (эй, посмотри, я как ходячий рекламный ролик революции). Молодежь отождествляет короткие волосы с властью, дисциплиной, занудством, несчастьем, зажатостью, ненавистью ко всему живому, ... а длинные волосы отпускаешь, чтоб росли аж вот до сюда — и ты свободен и открыт людям. Многие вот такущие хайры себе уже поотрастили — и за этих я спокоен. А вот другие относятся к своим волосам по-предательски. Но мы-то создали новую культуру. Наша новая культура имеет свой язык, свою религию, и свой личностный образец — 15-летний шпаненок, бросивший школу, клево, да? Таких надо прямо в президенты выставлять, самый ништяк: Боба Дилана в президенты!»[39]
Кстати, Эбби Хоффман вообще объяснял смысл хайра так: «По длинным волосам вы всегда узнаете своих. Это как у черных, которым сразу видно, кто свой, кто нет».
Рубин рассказал Силу и о том, как он нарядился, представ перед сенатской комиссией, куда его потащили за подрывную деятельность:
«В конце концов, я решил прийти как всемирный партизан: в берете “черных пантер”, с размалеванным лицом, в одолженной у приятеля вьетконговской пижаме, ...весь увешанный колокольчиками, которые звенели, как целый оркестр, когда я шел по Конгрессу. На мне был патронташ с настоящими патронами и игрушечная винтовка М-16...»
В общем, как писал в те дни один журналист, «черному бедняку, независимо от возраста, проще понять юный цветочный народец, чем их собственным родителям и учителям»[40]. А «возвращение к африканским корням» и отказ от образа «черного джентльмена» точь-в-точь совпадал с тем, что происходило у белой молодежи: соул играл роль рока, огромные курчавые клумбы (прическа «natural», или «афро») как аналог хайра, рубашки «дашики» как черный вариант хиппового прикида. И даже внутренние расхождения одни и те же: Движение делилось на «уличных бойцов» («fists») и «торчков» («heads»), «Black Power» — на политических радикалов типа Пантер и культурных националистов вроде Каренги и Амири Бараку (Лероя Джонса).
В феврале 1968 г. «Пантеры» объявили о «слиянии» с SNCC (те, правда, соглашались только на «коалицию»). Кармайкл получил титул «премьер-министра колонизированной Афро-Америки», Рэп Браун — «министра правосудия», а Дж. Формэн — «министра иностранных дел». Вскоре, однако, «координаторы» свалили из партии, обвинив «Пантер» во всех мыслимых мерзостях.
Начиная с 1969 года «Пантеры» пытаются утвердиться как авангард мировой революции в цитадели империализма, зазывая к себе всех оппозиционеров — даже Анджела Дэвис, уже будучи членом американской компартии, несколько месяцев одновременно состояла в «Пантерах». «Соледадского брата» Джорджа Джексона (два года спустя, в августе 1971-го, после гибели при попытке к бегству mass media сделала его поп-звездой политического андеграунда) «Пантеры» назначают «почетным фельмаршалом». Филиалы Партии Черные Пантеры возникли к осени 1970 в 35 городах США, и даже в Англии, Франции и Израиле.
В марте 1969-го к руководству SDS приходят «Метеорологи» — и тут же признают «Пантер» авангардом революционной борьбы. В сентябре 1971 Хью Ньютон посетил Пекин, где встречался с Чжоу Энь-лаем и женой Мао Цзян Цин. «Пантеры» получили официальное признание Кубы, Северной Кореи и Вьетнама, но главное — 6 сентября 1970 года «Gay Liberation Front» признает «Пантер» ведущей силой мировой революции! Сам Ньютон считал важным делом объединить всех, кто недоволен Системой: «Мы также выступаем за единство с политически сознательными группами гомосексуалистов. Мы встречались с представителями гомосексуалистов и “Фронтом освобождения женщин”»[41]. Мужественный шаг, учитывая нетерпимый к отклонениям и культивирующий образ ненасытного бабника характер культуры черного гетто.
«Пантеры» создают коалицию «Радуга» с участием «Молодых лордов», «Коричневых беретов», «Красной гвардии» (похожие на «Пантер» организации пуэрториканцев, мексиканцев и китайцев), белых «Молодых патриотов» и других.
3 июля 1969 года Кармайкл выходит из «Черных пантер», поскольку не согласен с тактикой союза с белыми радикалами — «без сопливых обойдемся» — и модными марксистскими заморочками. Одновременно «Пантеры» проводят в Окленде «Конференцию объединенного фронта против фашизма», на которую съехалось 3 тысячи представителей от 395 организаций. Пантеры отказываются от лозунга «Black Power» и принимают новый — «Вся власть народу!». Кливер из Алжира призывает вместе с нормальными ребятами вроде «Метеорологов» и йиппи создать «Североамериканский фронт освобождения».
В конце 1970-го «Пантеры» опять собирают многочисленную леворадикальную тусовку, Революционный народный конституционный конвент в Филадельфии, чтобы написать новую американскую конституцию.
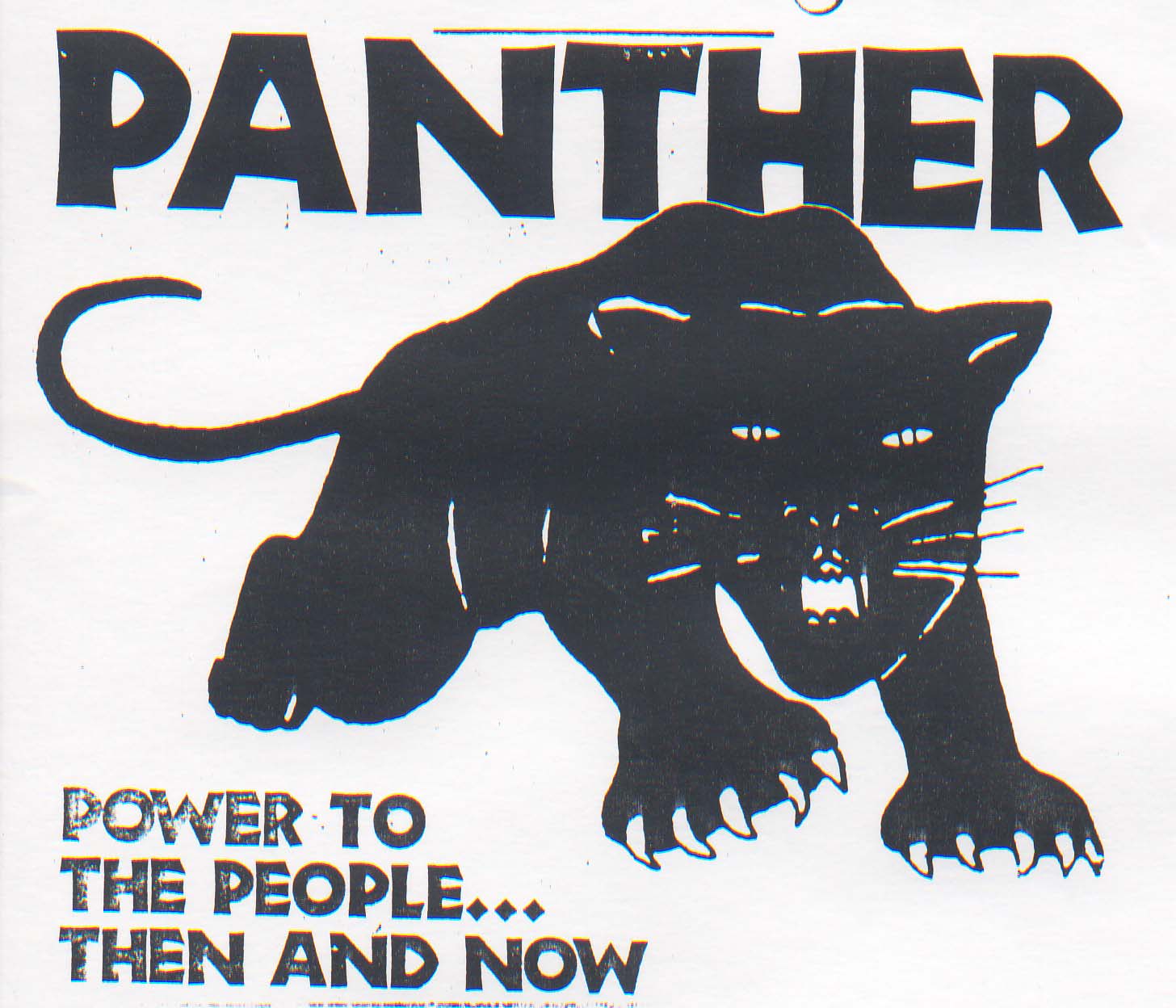
Самой, однако же, известной и популярной в черных гетто страны акцией «Пантер» стали не геройские патрулирования, а программа помощи черным беднякам, особенно раздача бесплатных завтраков школьникам. Деньги и продукты в рамках взаимопомощи черных братьев поставлялись зажиточными черными лавочниками и предпринимателями. Правда, газеты тут же подняли шум вокруг многочисленных жалоб богатеньких черных граждан на то, что «добровольные пожертвования» фактически были не чем иным, как вымогательством и рэкетом, которым «Пантеры» обложили зажиточных жителей гетто. Но в гетто свои нравы — не нам, «белым либералам», их судить. Что было, то было — в ноябре 1968-го Сил вынужден был заявить, что в партию проникли полицейские провокаторы и уголовники. Началась чистка рядов, были закрыты целые отделения в некоторых городах.
Власти молчаливо разрешают полиции делать с «Пантерами» все, что хочется. Полиция обиделась на «пантер» всерьез — еще бы: ладно, эти вечные «хвосты» вооруженных «пантер» достали, нормально службу нести не дают, но ведь сверх того вместо панибратского «коп» стражей порядка теперь иначе, как «свиньями» никто и не называл, ни черные, ни белые. Был даже выпущен официальный плакат (десять лет тому назад у нас бы это назвали «контрпропагандой»): полицейский, рискуя жизнью, спасает ребенка. Подпись: «И этого человека подонки называют свиньей!».
В августе 1968 произошли перестрелки «пантер» с полицией в Детройте и Лос-Анджелесе, двое из «пантер» были убиты. Летом и осенью 1968 полиция нападает на отделения Партии Черные пантеры в Ньюарке, Детройте, Сиэтле, Окленде, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе и Сан-Франциско. 4 сентября 150 свободных от службы полицейских напали на дюжину «пантер» в зале бруклинского суда. В ноябре 8 «пантер» были арестованы после налета на автозаправку.
За 1969 год было арестовано 348 «пантер». На залоги, штрафы и юристов только в 1967-1969 годах «Пантеры» истратили 5 миллионов долларов[42]. 31 июля 1969 года полиция нападает на чикагское отделение партии, трое «пантер» отстреливаются почти час. 4 декабря 1969 года полиция на рассвете вновь вломилась в чикагское отделение «Пантер», тут же открыв огонь. Двое «пантер» были убиты спящими, одному из них был 21 год, другому — 22. Один из них за полгода до того привлекался за кражу мороженого: дети, в сущности. 8 декабря полиция устраивает осаду лос-анджелесского отделения «Черных пантер». 11 «пантер», в том числе две женщины, отстреливались в течение 5 часов. Глава ЦРУ заявил, что «Черные пантеры» представляют величайшую угрозу для внутренней безопасности страны. К началу 70-х партия была обескровлена полицейскими налетами и массовыми арестами. Кливер даже предлагал устроить обмен пленных американских солдат во Вьетнаме на сидящих в американских тюрьмах «пантер»[43].
К концу 1970 года, по данным полиции, было арестовано 469 «пантер». 10 «пантер» и 12 полицейских погибли в сорока восьми перестрелках. По данным Партии Черные Пантеры, убитых «пантер» было 28. Только за 1968 год было убито 5 «пантер» и ранено 17 полицейских.
В январе 1969 в университетском кампусе Лос-Анджелеса произошло столкновение «пантер» с организацией «культурных националистов» Рона Каренги «US», что означает не «США», а «Мы», иногда же толковалось как «Uhuru Sasa» (на суахили — «Независимость немедленно»). Разногласия касались курса «История черной расы», недавно введенного в программу по требованию черных студентов. «Пантеры» считали, что освещать историю надо с «классовых революционных позиций», культурные националисты полагали, что черный человек — существо совершенно особое, с уникальной психикой и мышлением, белым теоретикам тут делать вообще нечего, а классовая борьба была придумана, чтобы облапошить афроамериканцев и скрыть главное противоречие мировой истории — борьбу между расами. Капитализм и социализм — это химеры для обмана простачков, а все беды — от утраты африканской идентичности и культурных корней. Каренга приехал на встречу со студентами красавцем — в черных очках, ниспадающем цветастом «африканском» одеянии, увешанный фенечками и гри-гри[44], с сияющим обритым черепом. Но студенты уже были обольщены революционной риторикой и предпочли «пантер». Тогда пару дней спустя в кампус, где собрались «пантеры», подъехали боевики из молодежного крыла «US» «Simba Wachuka» («Молодые львы»). Ребята были подкованы в искусстве «африканского» рукопашного боя и сменили свои пошлые англосаксонские имена на благозвучные Чочечи, Ватани, Тавала, Султани Али и Стоди. Вломившись на собрание, борцы за культурную аутентичность открыли пальбу и уложили двух «пантер».
Кто-то из «новых левых» снял фильм «The Black Panther», SDS устроили его прокат в университетах. «Пантеры» постепенно превращаются в поп-феномен, звезд телеэкрана. Обратите внимание на фотографии американского «модного пипла» тех лет: стены увешаны плакатами «Черных пантер». Молодая Америка смотрит на «пантер» с восхищением, добропорядочная — с ужасом. «Глазами общественности» «Пантеры» бездоказательно, но вполне искренне воспринимаются как банда. Мэр Сан-Франциско в дискуссии о «Пантерах» восклицает: как, разве вы не читали пункт их устава насчет грабежей и экспроприаций? На самом деле, ничего подобного в уставе «Черных пантер», конечно, не было. Столь же искренне и простодушно журналист спрашивал Кливера в Алжире: «А разве “Черные пантеры” не призывали браться за оружие и грабить магазины?» Но любая шумиха имеет конец.
Дж. Хит, редактор нескольких сборников материалов и документов по истории «Пантер», писал: «“Черные пантеры” сошли со сцены, поскольку они были всего лишь порождением средств массовой информации. Если бы они не разгуливали с оружием, не носили черные береты, не щеголяли зажигательной риторикой, не затеяли несколько неудачных перестрелок с полицией, а главное — не стали героями телеэкрана, их бы просто не заметили. Но они были одарены неким шестым чувством артистизма, и это помогло им завоевать аудиторию и создать запоминающийся образ»[45].
По сборникам речей и документов «Черных пантер» видно, как партия неотвратимо сползает в топкую трясину резолюций, постановлений и протоколов. В 1971-м партия раскололась. Как описывал это в своих трудах один из моих университетских преподавателей, Ньютон-де стал «мелкобуржуазным соглашателем» и сторонником «черного капитализма», а Кливер — «выразителем люмпен-пролетарской ультрареволюционности»[46]. На самом деле, все было намного тоньше и запутаннее, но какой же «ленинец» устоит перед ясной схемой развала нестойких и теоретически малограмотных непролетарских революционеров на сторонников «теории малых дел» (вроде либерального народничества и хью-ньютоновской «программы выживания черной общины») и отчаявшихся бомбометателей.
Хью исключил 9 нью-йоркских «пантер», проходивших по Процессу 21-го и бежавших, когда их отпустили под залог. В ответ нью-йоркцы обвинили Хью в утрате революционного пыла. «Weathermen» тоже прислали из своего подполья письмо, распекавшее Хью за то, что давненько «пантеры» «свиней» не забивали — мягкотелыми какими-то стали. 26 февраля 1971 года Хью выступал в телешоу. Во время телеэфира позвонил из Алжира Кливер и потребовал исключить из партии Хиллиарда[47], зато восстановить нью-йоркцев и вообще... Тут же в студии Ньютон исключил по телефону из рядов «Пантер» Кливера и всю его «Международную секцию». Кливер в ответ исключил Хью. «Умеренные» во главе с Хью (из 710 «освобожденных членов» — всего в партии было от полутора до пяти тысяч человек — к нему примкнуло 600, а из 38 отделений — 36) действовали в основном в благодатной Калифорнии, а непримиримая «Международная секция Партии Черные пантеры» — в пропитанном духом поножовщины угрюмом беспределе Гарлема. Дошло до того, что сторонники Ньютона в Гарлеме застрелили сторонника фракции Кливера.
Закончилось все, как это обычно бывает с самыми стойкими борцами, на удивление мирно. Хью Ньютон одно время носился с идеей «революционного самоубийства» (так даже называлась одна его статья) и выпустил книгу тюремных размышлений «Умереть за народ». Но затем стал склоняться к программам взаимопомощи в черной общине и идее «черного капитализма». При этом требовавших продолжения вооруженной борьбы сторонников «Международного бюро Партии Черные пантеры» алжирского изгнанника Кливера особенно возмущала дорогая квартира на берегу озера, в которой жил харизматический лидер. В августе 1974-го на Хью было заведено уголовное дело по шести пунктам, в том числе за убийство проститутки, и он бежал на Кубу. В 1977-м Ньютон вернулся, сколько-то там отсидел и вышел на свободу с чистой совестью.
Бобби Сил повздорил со своим закадычным другом Ньютоном и в 1974 году выдвигался в мэры Окленда по списку Демократической партии (!!!), но недобрал голосов. Выйдя из «Черных пантер», Бобби поселился в двухэтажном домике в Денвере и открыл ресторанчик с барбекю — приготовленной на жаровне свининой. Любимое блюдо Западной Африки (уличные шашлычные эпохи кооперативов напоминали мне о едком пряном дыме жаровен на балконах африканских городов) с модой на стиль «афро» стало считаться soul food, и дела у Бобби пошли хорошо. В 1988 году Сил издает в Беркли книжку о вкусных и здоровых соусах для мяса барбекю («Barbeque'n With Bobby» — «Ударим по шашлычку вместе с Бобби»). Надо иметь много мужества и мудрости, чтобы сказать, как Эбби Хоффман в 1989 году в последней своей речи незадолго до смерти: «Мы были молоды, безрассудны, глупы и опрометчивы — и мы были правы. Я ни о чем не жалею».
Кливер («беспринципный экстремист Кливер, выродившийся в ренегата», как назвал его в сердцах советский автор[48]) не вынес близкого знакомства с «реальным социализмом». После посещения СССР, Китая, Вьетнама и Северной Кореи Элдридж душевно занемог. В 1975 Кливер и Кэтлин[49] вернулись в США с искренним раскаянием: «Лучше сидеть в американской тюрьме, чем жить на свободе в другой стране!». Получив условный приговор с обязательной «работой на благо общества», Кливер стал выступать с проповедями, став членом евангелистской общины, антикоммунистом и патриотом (кроме цвета — ни дать, ни взять WASP). Позже он подружился с сектой Муна.
Маулана Рон Каренга отсидел 4 года за нападение с умыслом нанести увечье и занялся созданием «черной эстетики». Рэп Браун попался в манхэттенском баре за вооруженный грабеж: хотел отобрать на нужды Черной революции деньги у игроков в кости. Кармайкл женился на очаровательной эмигрантке из ЮАР певице Мириам Макеба[50]. «Для политики» ее в виде исключения крутили по советскому радио начала 70-х, среди Зыкиной и Ольги Воронец она звучала голосистой экзотической птицей. Сейчас, в эпоху этнической музыки, она бы не уступала Юссу Н'Дуру[51], но и так ее все слышали в саймоновском «Грэйсленде»[52]. Супруги уехали в Гвинею, но, кажется, тоже долго не вынесли свирепствовавшей при мудром Секу Type «социалистической ориентации»[53].
Остатки «Пантер» еще прозябали до 1980 года[54], занимаясь благотворительностью в черной общине, потом самораспустились. Пальбы больше особой не было, вернее, было много, но помимо «пантер» и без их участия.
И все-таки: за эти годы среди черных радикалов много кого было. Были серьезнее, были отчаяннее, были умнее, были многочисленнее, были экзотичнее, были интереснее. Но именно «Черные пантеры» остались — вовсе не в политике — в американской культуре, как тревожащий и завораживающий, двусмысленный и суровый, опасный и будоражащий романтический образ человека «решившегося», «перешагнувшего черту». Издеваясь над культурными националистами, сами «пантеры», как ни парадоксально, изменили черную общину именно через создание новой системы ценностей. Один из лидеров черной общины говорил: «Что «Пантерам» удалось по-настоящему, так это создать личностный образец, которому особенно стремятся соответствовать черные подростки... Это образец агрессивности, задиристости, права сильного, — всего того, чего у нас и помине не было в прошлом. Нашим кумиром был доктор Кинг, прекрасный, но чересчур мягкий человек. А вот «Пантеры» и Малькольм Икс создали новый образец для подражания»[55].
Опубликовано в альманахе «Забриски Rider» № 4 [1996].
По этой теме читайте также:
Примечания